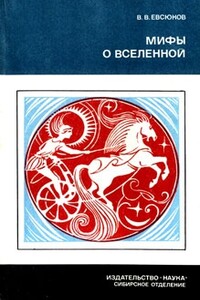Политэкономия соцреализма | страница 22
Режиссер Блиох к порученной ему работе отнесся безответственно и недобросовестно, допустил грубые инсценировки в фильме, нарушив имевшиеся на этот счет неоднократные указания Министерства кинематографии СССР о недопустимости инсценировок в документальной кинематографии, исказив тем самым реальную жизнь показом фальшивых эпизодов. Так, например, при показе лова осетров и белуги режиссер Блиох использовал ранее выловленную рыбу и искусственно пытался создать впечатление настоящего лова, вводя своей инсценировкой в заблуждение советского зрителя, который должен в документальной кинематографии видеть жизнь в ее документальной точности. Такой халтурный подход к показу труда рыболовов Каспийского моря, проявленный режиссером Блиох, привел и к другим серьезным ошибкам.
Вместо правдивого показа организации труда рыбаков Каспийского моря, передовых методов лова и переработки рыбы в фильме воспроизводится старая отсталая техника рыбного лова, основанная на ручном труде. В киноочерке не показан современный механизированный лов, а также не показаны крупнейшие государственные рыбопромышленные заводы по переработке рыбы, оснащенные современным первоклассным техническим оборудованием, и высокая механизация техники переработки рыбы.
В результате такого недобросовестного и халтурного подхода к выполнению ответственных задач режиссер Блиох создал киноочерк, не отвечающий высоким политическим и культурным требованиям советского зрителя»[33].
Можно не сомневаться в том, что под псевдонимом «советский зритель» скрывается сам Сталин. Это выдает не только стилистика текста (с любимым сталинским определением «халтура»), но и знакомая оптика: «фальшивые» эпизоды – те, что инсценированы, тогда как «правдивыми» были бы картины, показывающие «первоклассное техническое оборудование», которым не нашлось места в фильме. Иначе говоря, требование правдоподобия вместо правды. Словом, «жизнь в ее революционном развитии» вступила в конфликт с «жизнью в ее документальной точности». Политбюро неожиданно встало на защиту последней, произведя на свет постановление, как будто написанное героем Зощенко.
Едва ли не все цензурные постановления, которые принимались на разных уровнях партийного руководства (как «открытые» – в ждановскую эпоху, так и «закрытые», каковых, конечно, большинство), так или иначе связаны все с тем же вопросом репрезентации и перцепции советской реальности. Каждое из них содержит и весь набор инструментов соцреалистической критики («типическое», «реальная действительность», «отражение правды жизни», «искажение перспектив нашего строительства» и т. п.) и может служить образцом не только аппаратного творчества, но и «партийной критики» (что функционально, разумеется, одно и то же). Однако если предположить, что перед нами не просто образец партийной казуистики, но некая эстетическая программа, то придется признать, что, выступая за «жизнь в ее документальной точности», т. е. неинсценированную «жизнь», сталинская эстетика апеллировала к ней вовсе не как к «отображенной» реальности (или даже идеологии), но именно к «реальности» как таковой.