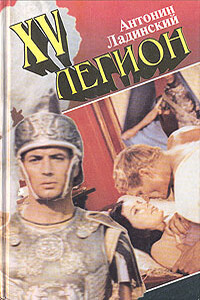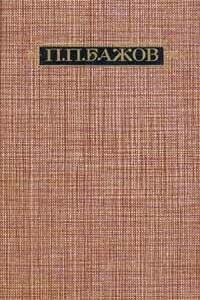Шествие | страница 54
6
Перебелив на пишущей машинке очередную тетрадь с записками Мценского, я почему-то приуныл; моих намерений коснулось разочарование, я впервые почувствовал, что испытываю к методу доктора Чичко холодок настороженности: никаких бесхитростных «записок пациента» не было в помине. Вместо них подавалось самодеятельное сочинительство. Викентий Мценский, оказывается, грешил писаниной, производил впечатление. Уж не графоман ли очередной?
Поразмыслив, я успокоился. Пациент сочиняет. Фантазирует. А что здесь такого? Пусть воображает. Вот если бы он, пациент, то есть человек с надломленной психикой, заговорил неожиданно трезво, расчетливо, описал какой-либо производственный процесс или конфликт, — тогда и впрямь было бы чему удивляться. И наоборот: сколько раз, с трудом осилив, а то и не дочитав до половины книгу того или иного автора, говорили мы: бред сумасшедшего!
Нет, я все-таки с большим удовлетворением и с каким-то даже несвойственным мне восторгом присоединяю к запискам Мценского свои размышления об этом человеке. Лично меня в его записках прежде всего поразило и увлекло намерение вернуться в жизнь другим человеком, существом, обнаружившим у себя душу, заслышавшим музыку вечного бытия. Наблюдать за таким возвращением не только интересно, но и поучительно. Что я и делаю.
Тот первый послебольничный день Мценского оказался невероятно длинным, вместительным. Случаются в череде дней такие вот многозначительные, объемистые дни. И не дни, а как бы карликовые эпохи, своеобразные концентраты времени, сгустки всевозможных событий, состояний, информации, ощущений и прочих впечатлений.
Неординарность дня сказывалась для Мценского буквально с первых лучей солнца, проникшего в больничную палату. Под действием этих лучей Викентий Валентинович открыл глаза и увидел пламенные язычки тюльпанов, склонившиеся к его лицу с тумбочки: кто-то принес букет, поместив его в бутылку из-под кефира.
Поначалу цветы обрадовали, потом испугали: а вдруг не ему? Когда выяснилось, что ему, — озадачили: кто принес, почему? Не подвох ли, не безжалостная ли насмешка? Никогда в жизни цветов ему не дарили. Не бывало такого случая.
И здесь я позволю себе отклониться от изложения событий, чтобы внести некоторую ясность в «скрытный» характер заболевания Мценского: известно, что психике, отравленной алкоголем, чаще сопутствует так называемый бред ревности. Крупицы (или остатки) этого бреда коснулись конечно же и Викентия Валентиновича. Однако не они окрашивали картину. В глаза бросалась непомерная бытовая мнительность Мценского. Еще не мания преследования, но уже и не просто подозрительность. И вдруг — эти цветы…