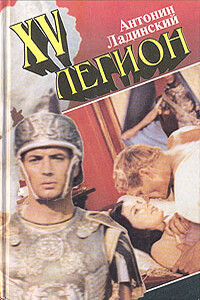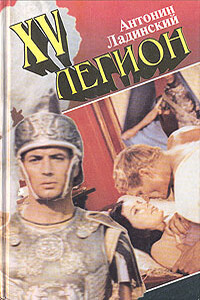Шествие | страница 52
— А я и не любил никогда! Я — соображал. Даже в постели…
Суржиков извлек из кармана шубы пуговицу, оторванную в девятьсот семнадцатом году, поиграл ею несколько мгновений, подбрасывая и ловя, а затем швырнул ее коллекционеру Мешкову, оказавшемуся поблизости.
— А вам что же, не надоело мыкаться? — обратился ко мне Суржиков после некоторого раздумья. — Мало вам одной белой горячки? Хотите повторить?
— А знаете… все бы отдал. Лишь бы вернуться. Говорят, на развилке некоторых посылают обратно. Тех, что не полностью созрели для жизни вечной. Вот я иногда, стыдно сказать, плачу по ночам, когда глаз не видно. Вспомню, как дерево в нашем дворе на ветру шумело, серебристый тополь… Или воробья на подоконнике… и мигом слезы наворачиваются. А ведь это непорядок, не принято здесь плакать, не положено. Может, не созрел я?
— Последствия алкоголизма, — определил Суржиков. — Все эти ваши слезы и прочие «чуйства», все эти вдохновенные порывы и прочие сантименты — от водочки-с.
— Ошибаетесь, почтеннейший! — вступился за мои «чуйства» профессор Смарагдов, которого я в процессе дискуссии успел подзабыть, потерять из виду. — Ошибаетесь, это дивные слезы. Потому что они — любовь.
— К отеческим гробам? Кладбищенский пафос обреченных. Вас он еще вдохновляет? Меня — нет. В этом плане я созрел, — отвернулся от Смарагдова Суржиков. — Да и что бы вы там, на родимых пепелищах, делали, господа? С теперешним-то вашим смертным опытом?
— Да великолепнейший вы мой! Да любил бы все подряд, без разбору! Любое проявление жизни. В любое время дня и ночи. Разве не так? — обратился ко мне за поддержкой Смарагдов.
— Ну… может, и не все подряд, а, так сказать, через одного, во всяком случае — не отказался бы от предложения. Разве я жил прежде-то? — заторопился я высказаться, ощутив исповедальную потребность как приступ внезапного неутолимого зуда. — Разве я когда-нибудь ликовал, что живу?! Тянул лямку. Чудесную тайну бытия принимал как ежедневную тарелку супа. Не жил, а жрал! Не мыслил, а смекал: как убить время? Где раздобыть бутылку, чтобы забыться? Что я знал? Знал, что у меня есть голова, ноги, руки, брюхо, и — понятия не имел о душе! И сколько там таких, не подозревающих в себе «второго этажа», второго мира — духовного, главного, бессмертного. Сколько лет моему поколению вдалбливали, что никакой такой души нет, а есть только мозг, мясо, плоть со всеми ее изумительными функциями, пресвятая материя, которая — остановись сердце — незамедлительно превращается в гнусную тухлятину, не более того. А человеческая жизнь будто бы не что иное, как мыльный пузырь, радужная оболочка, внутри которой пустота. Лопнула оболочка — и ничего нет, а главное — ничего как бы и не было. Вот вы о смертном опыте обмолвились: дескать, после такого опыта разве молено жить? Да, господи, только после гибельных страданий и понимаешь что к чему! Ни болезни, ни старость, ни родственные потери не дают столько разуму людскому, сколько этот очищающий опыт, опыт собственного ухода за горизонт бытия. Окунись я опять в жизненные треволнения, — да разве ж я смог бы жить столь безнравственно, как прежде?