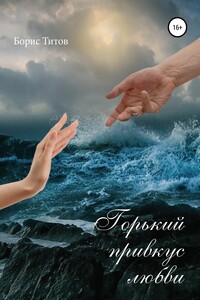Реки не замерзают | страница 84
— Послушай, Борис, — спросил Сбитнев, — а что там с той дамой, вдовой офицера, ну, с которой конфликт вышел.
— С Сергеевой? — рыгнув, переспросил Голим Голимыч. — Что с ней может быть? Денег ей выделили от комитета солдатских матерей — две тысячи долларов, квартиру пообещали, чтобы успокоилась, ну, и предупредили, конечно, что неприятности могут быть у ее детей если еще что-нибудь себе позволит.
— Почему еще и денег дали? — недовольно пробурчал Сбитнев. — И почему от комитета солдатских матерей? Ее бы посадить за хулиганство следовало.
— Ты думаешь, что говоришь? — прошипел Голим Голимыч. — Посадить вдову Героя России, да еще с двумя детьми? Веня, ты конечно мужик умный, но ты представляешь что бы было? А денег от нас она бы не взяла, хотя и нуждается. Вот так!
Голим Голимыч замолчал и опять уткнулся в свое чрево, а Сбитнев, взглянув в окно на мелькающие темные и косматые кроны деревьев, припомнил вдруг свои мрачные ночные кошмары, которые в последнее время его буквально одолевали, да так, что он собирался уже на консультацию психиатру. Буквально каждую ночь вваливался (иначе и не скажешь!) к нему в сон какой-то огромный волосатый нечесаный мужик — потный и, похоже, нетрезвый. Он обрушивался сверху всей своей чудовищной массой, давил и при этом злорадно сипел: “Я тебя научу Родину любить, паршивец!” Сбитнев чувствовал, как мужик вытаскивает из брюк ремень и понимал, что сейчас его будут нещадно пороть. От этого становилось, ужас как, страшно, но мочи кричать не было… Каждый раз Сбитнев просыпался в поту и до утра уже никак не мог заснуть. Самое странное, что голос этого чудовища был до боли знаком. Только вот чей? Мучительно напрягая память, Сбитнев копался в ее пыльных кладовых, но, увы, кроме англоязычных инструкций и каких-то листков, исписанных на малопонятном иврите, ничего не отыскивалось. С кошмара ночного он перескочил на кошмар недавний — бред Шимановича. “Тонкая бестия, — припоминая все сказанное о нем, подумал Сбитнев, — погоди у меня паршивец. Но как красиво сказал: мужественное, волевое лицо! (Тут Сбитнев почувствовал, как приятная, теплая волна растекается по всему телу). А что? Прав ведь шельмец: и мужественный и волевой…” Но вдруг выпал из какого-то темного закуточка заплесневелый памятный блокнотик, и Сбитнев отчетливо вспомнил, как лет восемь назад, когда его еще не возили в персональном автомобиле под охраной мордоворотов, когда ездил он на метро, как и прочие граждане, повстречали его в подворотне два подпитых уголовника — щуплые, низкорослые с тупыми неодухотворенными лицами, но изрядно разгоряченные спиртным и от того нагловатые и безцеремонные. “Мужик, — прогундосил, легко ухватив его за руку один из них, — тудема-сюдема, дай закурить, в натуре”. Сбитнев хотел отбросить руку и отбрить нахала резким словцом, но от чего-то вдруг онемел языком и одеревенел мышцами. Он вдруг отчетливо понял, что оказался один в этой темной подворотне, и, кричи не кричи, никто не придет на помощь. Он почувствовал, как оборвалось куда-то вниз его сердце и как подгибаются разом ставшие ватными колени. “Не надо-о-о!” — протяжно, как-то совсем по бабьи, пропищал он. Граждане уголовнички сами оторопели от такой его реакции. Они переглянулись и стали торопливо шарить по его карманам. “Возьмите все, только не убивайте” — просяще шептал Сбитнев, чувствуя абсурдность ситуации. “Очень надо о тебя мараться, мерин, — прошепелявил другой мужичек, вытряхивая на асфальт содержимое его бумажника, — ты сам нам отдался, как девка дворовая, мы не просили, но раз дают — бери” Сбитнева обрыскали-ощупали, два раза вполсилы ударили в живот, от чего он согнулся и упал на колени; потом ему влепили подзатыльник и на этом оставили в покое. А он все сидел и сидел, привалившись к холодной спине и плакал от унижения и обиды… И еще долго потом его мучили страхи, что кто-то узнает про таковой его позор… Он учился придавать своему лицу выражение непреклонности, смелости, отваги даже (кто, мол, подступит к такому?) и, что говорить, достиг определенных успехов. И все-таки по-прежнему иногда вспоминал и боялся: вдруг прознают? Как прежде, много раньше, боялся, что каким-то образом всплывет информация о его привычке в двадцатилетнем возрасте носить на шее серебряный бабушкин крестик (чего только не натворишь по молодости-то!).