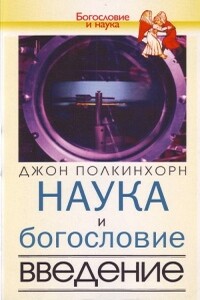Далекое будущее вселенной. Эсхатология в космической перспективе | страница 32
• Скачок представляет собой столь экстремальный физический переход, что информация после него воспроизводится «с нуля» [27], может быть, случайным образом. Возможно, изменяются сами законы физики. В этом случае эволюция каждого цикла не обязана коррелировать с предыдущими и последующими циклами. Стоит спросить, уместны ли здесь вообще термины «предыдущий» и «последующий», поскольку временная последовательность в этом случае теряет смысл. С тем же успехом можно сказать, что циклы не последовательны, а параллельны.
• Циклическая модель каким‑либо образом комбинируется с обращением времени. Например, стрела времени может быть направлена в разные стороны в следующих друг за другом циклах, поворачиваясь вспять (скорее всего) не на вершине расширения, а в момент скачка[21]. В таком случае по прошествии двух циклов вселенная вернется в изначальное состояние.
5. Стационарная вселенная, которая не имеет ни начала, ни конца, но продолжает неограниченно расширяться. Постоянно возникающая новая материя заполняет промежутки, возникающие при разбегании галактик. Эти инъекции низкоэнтропийной материи всегда «подпитывают» вселенную, позволяя ей сочетать вечное существование с бесконечным развитием. Из вариаций на эту тему можно назвать космологию С–поля, разработанную Хойлом [13], с асимптотически стационарной вселенной, или модели, в которых эволюционные эпизоды погружены в общее стационарное состояние.
6. Космологии мультивселенных[22]. Общая идея этих моделей: то, что мы до сих пор принимали за «вселенную», на самом деле лишь «пузырь пространства», в гораздо более крупной системе, где другие «пузыри», возможно, с совершенно разными физическими условиями, существуют на очень большом расстоянии друг от друга. Каждый «пузырь» может проходить свой жизненный цикл: рождение, развитие и, возможно, смерть; но это не мешает всему ансамблю в целом пребывать в состоянии, похожем на стационарное. Таким образом, мультивселенная вечна, но ее индивидуальные компоненты — нет. Среди моделей такого рода можно назвать хаотическую космологию Линде [18] и «космический дарвинизм» Смолина [23]. В последней модели одна вселенная может порождать другие посредством своеобразного «почкования», так что ситуация напоминает жизнь биологических организмов — по мере того как вселенная — «родитель» стареет, рождаются новые вселенные, и так до бесконечности.
Хотя астрономические наблюдения предлагают нам возможность различения между этими моделями, космология (по крайней мере до самого последнего времени) славилась тем, что из одних и тех же наблюдений разные космологи делали совершенно разные выводы. В этой атмосфере, вероятно, можно понять сторонников и противников различных моделей, которые чаще, чем это принято в науке, привлекают себе на помощь аргументы эмоционального и богословского характера. Например, Фред Хойл ясно дал понять, что теория стационарного состояния привлекательна для него потому, что исключает «Большой взрыв» [14], который в 1950–х годах идентифицировался в некоторых кругах (например, папой Пием XII) с иудео–христианской концепцией творения. Для Хойла (в то время) идея божественного творения была нетерпима, поэтому он приветствовал теорию вселенной, не имеющей ни начала ни конца, как способ избавить научную космологию от ее богословских корней. В том же духе многие ученые (например, Роберт Джастроу [15]) принимали прямо противоположную точку зрения, заявляя, что верят в «большой взрыв» как научную версию библейского мифа о творении. Нет сомнения, что даже сейчас теисты чувствуют себя более комфортабельно с теорией «Большого взрыва», хотя самому по себе учению о творении