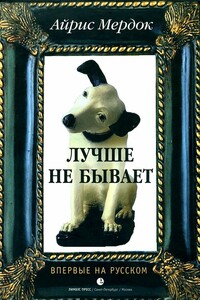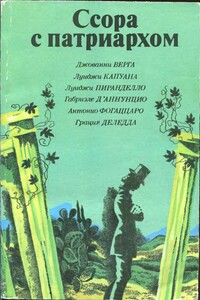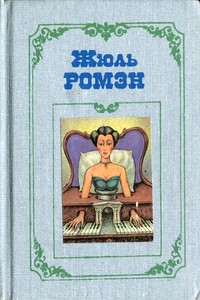Чужие письма | страница 61
«Трудно понять, — недоумевали штатные рецензенты, — из каких тараканьих щелей выползло на свет сие существо, в котором нет ни единого признака нормального советского человека…»
«Характер, несомненно, любопытен, но, к сожалению, он доведен до таких гротесковых форм, что воспринимается как явление исключительно редкое, нетипичное…»
«Ваш герой, если уж говорить прямо, интересен только тем, что ждешь — до какой еще низости он может опуститься, на какую подлость способен…»
«Ваш герой есть ничтожество — отвратительное, глупое, злое. И в главные герои он никоим образом не годится…»
Во утешение авторского самолюбия приходилось довольствоваться историко-филологическими изысканиями утверждения собственной правоты и прав моего персонажа на литературную жизнь.
И оно нашлось.
«Одна из причин жадности, с которой читаем записки великих людей, есть наше самолюбие: мы рады, ежели сходствуем с замечательным человеком чем бы то ни было, мнениями, чувствами, привычками — даже слабостями и пороками. Вероятно, больше сходства нашли бы мы с мнениями, привычками и слабостями людей вовсе ничтожных, если б они оставляли нам свои признания».
Эти прозорливые пушкинские слова стали эпиграфом ко всей созданной мною позднее эпистолярной тетралогии «Прежние слова».
Читая чужие письма
Юрий Лощиц
Наверное, сегодня не только у меня при чтении повести Александра Морозова «Чужие письма» возникнет ощущение, что где-то или от кого-то нечто подобное было уже прочитано или услышано… Но, оказывается, ощущение это совсем иного свойства, нежели когда говорят: ну, да тут обыкновенное заимствование, из такого-то или из таких-то источников…
Однако же в ту пору, когда повесть была написана (1968 год), у Александра Морозова и при большом желании не оказалось бы возможности прибегнуть к литературному заимствованию. По той простой причине, что тогда никто из его писателей-сверстников или авторов более старшего поколения так, о таких людях и про такие их житейские передряги еще не писал.
Если же говорить о заимствовании как о сознательном равнении на высокий литературный образец, то на страницах «Чужих писем» несомненно высвечивается проза Федора Михайловича Достоевского с его «Бедными людьми».
Александр Морозов и сам подсказывает — эпиграфом к «Чужим письмам» — тот высокий адрес русской литературной традиции, свое творческое равнение на которую он совершенно не скрывает.
Но узнаваемое теперь всем миром полифоническое слово Достоевского в повествовательной ткани «Чужих писем» присутствует вовсе не в качестве законодательной, всех и вся подминающей силы. Это, скорее, легчайшее, едва уловимое дуновение освежающего ветерка…