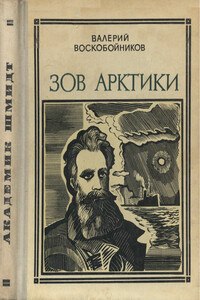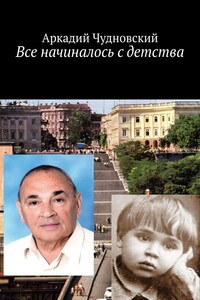За великое дело любви | страница 22
— Бог с вами, — несогласно морщится граф. — Хватили вы, сударь, позвольте сказать. Нет, нет!
— Отчего же нет, граф, — стоит на своем Фукс. — В Западной Европе рабочие вкупе с революционерами даже сотворили свой интернационал. Известен и их манифест, что скрывать!
Граф это знает и все же отрицательно качает головой — в России, считает он, ничего похожего быть не может.
Но, словно в поддержку Фукса, из III отделения прибывают новые сведения: на площади схвачено, кроме того мальчика, еще двое рабочих, немного постарше годами. Происходят они из крестьян и числятся крестьянами, но установлено, что они заводские.
Как ни коробит присутствующих торжествующий вид карликового Фукса, они, хотя и желают ему в душе черта, прислушиваются к его доводам уже более внимательно. И кажется, нарочито так, из какого-то злорадства Фукс предсказывает много недоброго России: будет в ней, дескать, и чем дальше, тем больше, то же, что и происходит в Западной Европе, — рабочие союзы, забастовки, стачки; не миновать и баррикад, а возможно, будет и такое, чего мир не видел, ибо Россия — это Россия, и народ русский как размахнется, его уже и не остановишь.
И как бы в подтверждение такого рода пророчеств Фукса поступает еще одно донесение: едва пробежав его глазами, граф снова тянется к стакану с водой. Донесение от тайного полицейского агента, сумевшего проникнуть в толпу демонстрантов у собора. По уверению агента, все там, на площади, были поголовно вооружены, если не бомбами, то, по крайней мере, револьверами и кастетами.
В канцелярию III отделения и полицейские части летит новый запрос от Палена: сколько именно и какого вида оружия отобрали у тех, кого успели схватить?
Скоро выясняется: револьверов отобрано два, причем один из них обнаружен уже после демонстрации у молодого человека из прохожих, смахивавшего, по предположению, на демонстранта.
— Как? Два револьвера? Майн гот!
Теперь уже и Пален видел: тут уж спасительной поркой не обойдешься. Эти «девки и мошенники» за оружие берутся! Худо дело!
Наконец явился долгожданный Анатолий Федорович Копи, мужчина лет тридцати пяти, с уже седеющими висками и вдумчивым осмотрительным взглядом умудренного жизнью человека. Имя его впоследствии прогремит, он станет известным юристом и литератором и много лет спустя напишет в своих воспоминаниях, как решалось дело в кабинете у Палена.
Трудное положение бывает и у вельмож, и в воспоминаниях Кони говорит об их растерянности: