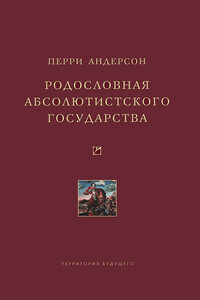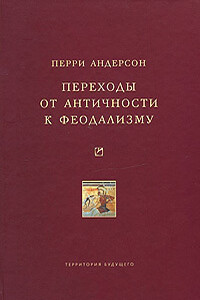Истоки постмодерна | страница 88
Идеологическая двойственность постмодерна, таким образом, может увязываться с историческим контрастом, схематично это выглядит так: поражение организованных рабочих и студенческих бунтов завершается экономическим подстраиванием под рынок; возвышение униженных и оскорбленных приводит к политически окрашенным сомнениям относительно морали и государства. Некоторые из этих параллелей, несомненно, скрыто присутствуют в концепции Иглтона. Но если они никогда не становятся достаточно явными, то по причине определенной двусмысленности ее установки. На ее поверхности представляется, что для двух основополагающих тенденций, приписываемых ею постмодерну, нет никакой общей меры: первая определяет главную тему, которая составляет содержание всей книги; вторая, так сказать, является иносказательной компенсацией за нее в двух параграфах. Политическая реальность, возможно, предполагала, что данная пропорция оправдана. Но она с трудом сочетается с понятием двойственности, которое предполагает равенство следствий. Возможно, ощущая эту сложность, Иглтон ежеминутно перечеркивает левой рукой то, что написал правой. История политического поражения завершается «самой причудливой вероятностью из всех, когда он спрашивает: „А что если этого поражения никогда не было? Что, если речь идет не столько о восстании левых с последующим его разгромом, сколько о постепенном распаде, поступательной утрате нерва, прогрессирующем параличе?“» Если дело обстоит так, то тогда баланс между причиной и следствием восстанавливается. Но Иглтон, хотя и склоняется к этой комфортной фантазии, слишком здравомыслящ, чтобы настаивать на ней. Его книга заканчивается так же, как и начинается, «к сожалению, на минорной ноте»: не баланс, но иллюзия является концевой строкой постмодерна>42.
Дискурсивный комплекс, являющийся объектом критики Иглтона, как он сам замечает, представляет собой феномен, который можно рассматривать вне связи с художественными формами постмодерна, — идеологию как отличную от культуры в традиционном значении терминов. Но, конечно, если употреблять их более широко, то такое четкое разделение невозможно. Как тогда следует описывать отношение идеологии и культуры? Как фактически показывает Иглтон,