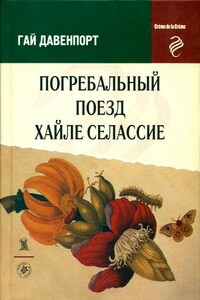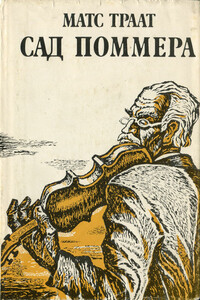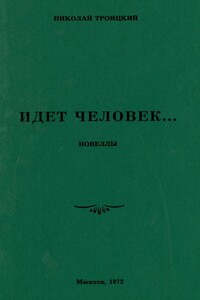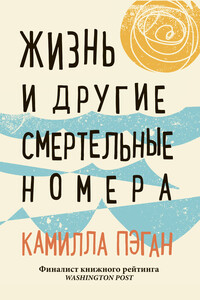Собака Перголези | страница 7
С 1912 по 1917 год один человек, которого вполне мог придумать По, просиживая ночь за ночью в длинной и почти пустой комнате пролетарского района Берлина, писал при свече книгу. «Человек, которого вполне мог придумать По», занимался в основном классицизмом — его докторская диссертация посвящалась Гераклиту, его ум сформировали Гете, Ницше, фон Гумбольдт и Лео Фробениус — антрополог и морфолог культуры. Подобно По, этот человек мыслил символами.
Это был Освальд Шпенглер. Его большая книга «Закат Европы» мыслилась как параллель к военным кампаниям 1914–1918 годов, когда Верхмат с педантичной приверженностью тактике и героической страстью намеревался навязать Европе немецкий порядок и судьбу. Как и Вермахт, книга Шпенглера навязала ей одно лишь трагическое ощущение: история не зависит от наших желаний, она до смешного извращенна и кошмарна.
Ценность «Заката Европы» — в его поэтическом видении, интуитивном открытии восхождения, роста и заката культур. Под культурой Шпенглер понимал растянутую на тысячелетия созидательную энергию людей. Цивилизация — это зрелость культуры и, неизбежно, ее закат. Шпенглеровское чувство истощения любой законченной культуры в точности совпадает с тем ощущением, которое выразил По в «Падении дома Ашеров» и «Убийстве на улице Морг»: оба рассказа повествуют о том, насколько уязвимы бывают порядок и достижения цивилизации.
Самая полезная догадка Шпенглера состояла в делении мировых культур на три главных типа: аполлонический, или греко-романский; фаустовский, или северо-западно-европейский; и магический, или исламский и азиатский. Историки, правда, тотчас принялись жаловаться, что культуры нашего мира нужно делить не на три, а на семьдесят шесть непересекающихся групп.
Нас, однако, интересует то, что категории Шпенглера в точности совпадают с категориями Эдгара Аллана По.
И Джеймса Джойса. Взгляните на три начальных рассказа «Дублинцев». Первый повествует о жестокости ритуалов, восходящих из глубины латинской культуры к католической мессе, второй заимствует символы из рыцарства, из морального кодекса рыцарского сословья, третий же назван «Аравия». Эта триада символических схем повторяется еще четырежды, образуя вместе пятнадцать рассказов. Первые три главы «Улисса» следуют той же структуре, причем еще сложнее; упростив до предела суть «Улисса», можно сказать, что это книга о том, как человек по имени Леопольд Блум, северо-европеец из фаустовско-технологической среды и потомственный еврей из «магической культуры» Шпенглера, повторяет приключения Улисса — идеального человека классицизма.