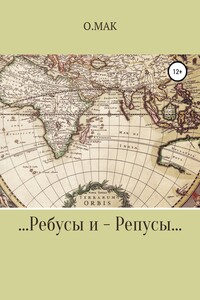Собака Перголези | страница 51
В любом случае, когда критик рассматривает плутовской роман или литературную трактовку иллюзии и самоопределения личности, он одновременно вспоминает и Сервантеса, и Набокова.
Эти лекции по Сервантесу были триумфом Набокова в том смысле, что он сам изумился, придя к окончательному мнению о «Дон Кихоте». Он отнесся к задаче со всей скрупулезностью, несмотря на то, что считал этот классический анекдот громоздкой безделкой и подозревал, что там кроется некий подлог. Именно ощущение обмана и пробудило его интерес. Затем, я думаю, он увидел, что подлог заключался в репутации книги, распространившейся, подобно эпидемии, в среде критиков. Такие вещи Набоков любил разметать в хвост и гриву. Он стал выявлять в кишащей неразберихе некую симметрию. У него зарождается подозрение, что Сервантес ничего не знает об «отвратительной жестокости» книги.
Ему начинает нравиться сухой юмор Дон Кихота, его заразительный педантизм. Он соглашается с «любопытным феноменом»: Сервантесом был создан характер величественнее самой книги, от которой он отделился — и вошел в искусство, в философию, в политический символизм, в фольклор грамотеев.
«Дон Кихот» по-прежнему остается старой грубой книгой, наполненной специфической испанской жестокостью — беспощадной жестокостью, дразнящей старика, который не перестает играть, подобно ребенку, до наступления слабоумия. Она была написана в то время, когда над карликами и бесноватыми насмехались; когда честь и высокомерие были невероятно заносчивы; когда отступники от общепринятой мысли сжигались заживо на городских площадях под всеобщие рукоплескания; когда милосердие и доброта, казалось, были полностью изгнаны. В самом деле, первые читатели книги от всего сердца смеялись над ее жестокостью. Однако в мире вскоре нашелся иной способ прочтения. Книга дала толчок современному роману по всей Европе. Филдинг, Смоллетт, Гоголь, Достоевский, Доде, Флобер позаимствовали в Испании лекало этой легенды и использовали в собственных целях. Герой, вышедший из-под пера творца шутом, с течением времени превратился в святого.
И даже Набоков, всегда незамедлительно обнаруживающий и обличающий жестокость в основе всей сентиментальности, разрешает ему быть самим собой. «Мы больше над ним не смеемся, — заключает он. — Его герб — жалость, его флаг — красота. Он символ благородства, отчаяния, чистоты, галантности и бескорыстия».
ЧЕЛИЩЕВ
© ПЕРЕВОД Д. ВОЛЧЕКА
Публика — порождение учтивости XIX столетия, занявшись Культурой, как одну из действенных аксиом установила, что не разбирается в искусстве, но знает, что именно ей по вкусу, заявляя тем самым права на свою народную мудрость в том смысле, который ей придавал император Калигула. В первое же воскресенье, когда публика была допущена в Британский музей, тучный зеленщик сшиб амфору, вдохновившую оду Китса, и разбил ее вдребезги. Непогашенной сигарой публика спалила все зарисовки городов майя на Юкатане, сделанные Фредериком Катервудом. Публика выцарапывала глаза на картинах в галерее Уффици, а в один прекрасный день кто-то из этой же публики засунул под мышку «Мону Лизу», хладнокровно вынес ее из Лувра и повесил в ногах своего скромного ложа.