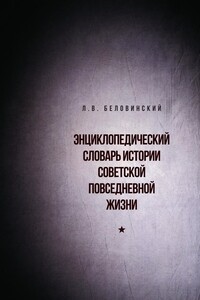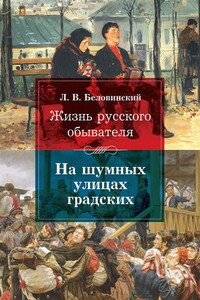Изба и хоромы | страница 94
Кроме того, русская женщина была недееспособна. Паспорт жене или дочери выписывался только с позволения мужа или отца, причем супруг мог вернуть жену, ушедшую из дома, например, на заработки, до окончания срока паспорта, обратившись в полицию. И ее возвращали по этапу.
Но при всем при этом русская женщина и по закону, и по крестьянскому обычному праву была совершенно независима по имуществу. Напротив, муж был обязан содержать жену. Дворянка, получившая в приданое деревню (или деревни) с крепостными крестьянами, сама управляла ею, и муж даже не имел права въезда в эту деревню без позволения жены. Обычно жены давали мужьям доверенность на управление имуществом, которую, однако, могли и аннулировать. Если же муж и жена разводились или разъезжались (формальный развод был сильно затруднен и обычно супруги, чтобы избежать хлопот и больших расходов, просто жили раздельно; законом это расценивалось как «незаконное сожительство», но администрация на разъезд смотрела сквозь пальцы), то муж был обязан выделить жене необходимое «приличное» содержание; и это при том, что детей закон оставлял отцу и у жены могло быть собственное имущество. После смерти жены ее приданое возвращалось в ее семью.
Точно так же обстояло дело и в крестьянской семье. Женщина была обязана работать на большака, хозяина (муж, его отец, его дед, его старший брат) лишь часть года, независимо, в собственном хозяйстве или по найму, куда сговорил ее большак: «...Лето, с 15 апреля по 15 ноября, баба обязана работать на хозяина, и ей все равно, где работать, на своем поле или на панском» (107, с. 177). Разумеется, ее заработок поступал в семью (то есть и на ее пропитание). Кроме того, жена была обязана наготовить за год мужу и детям определенное количество рубах, портов, полотенец, готовить пищу. Но все остальное время она работала на себя, пряла ли, ткала или работала по найму. Все, что она зарабатывала, было уже ее имуществом, в которое муж не имел права «вступаться». Более того, даже летом ее заработок вне круга обычных полевых и домашних работ, был ее собственностью: деньги за собранные и проданные ягоды или грибы были ее деньгами. Каждый член семейства имел свой сундук, и муж не мог залезть в бабий сундук, вынуть деньги или холсты и продать их, даже если требовалось заплатить подати или купить хлеба, чтобы накормить ту же жену. Если она его любила, то могла дать денег, отдать холсты, чтобы его не упрятали в холодную или не высекли. Но только так, и не иначе. Так что нельзя было продать холсты и наряды ни бабы, ни невестки – это их холсты и наряды. И где мужик достанет хлеба – никого не волновало: женился – значит корми; раз большак – корми.