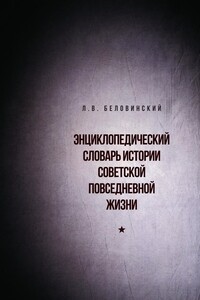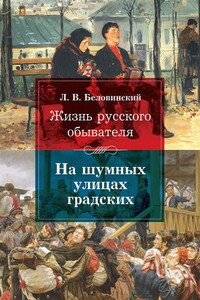Изба и хоромы | страница 79
Лошадь заводилась в станок и закрывалась со всех сторон брусьями. Предварительно изготовленную подкову кузнец примерял к копыту и, разогрев ее, подгонял по форме и размеру копыта. Затем срезались толстым ножом излишки рогового вещества и толстой ороговевшей кожи. Вновь нагрев подкову, кузнец прикладывал ее к копыту, так что обгорали несрезанные части кожи и рогового покрова, которые затем снимались грубым рашпилем. Подогнав подкову, кузнец прикладывал ее к копыту и точными ударами молотка прогонял через отверстия в подкове и роговой венчик копыта ухнали, плоские подковные гвозди в виде узенького треугольничка; широким концом ухналь входил в гвоздевую дорожку на подкове, а острый конец загибался молотком на копыте. Конечно, разные бывают лошади, и спокойные, и нервные, разные бывали и кузнецы. Неумелый кузнец мог и «заковать» лошадь, прогнав ухналь через мягкие ткани копыта, отчего лошадь немедленно начинала хромать и ее требовалось перековывать. Он мог и плохо подогнать подкову, так что лошадь начинала «засекаться», разбивая себе соседнюю ногу выступающим краем подковы, или неплотно подогнанная и прибитая подкова хлябала и разбивала копыто. Кузнецы были спокойными и сдержанными людьми, иногда даже несколько медлительными, физически сильными, с крепкими разработанными руками, и обладали разнообразными знаниями, отчего к ним относились не только с уважением, но даже с некоторой боязнью. Считалось, что в стоявшей на отшибе мрачноватой кузнице водится нечистая сила, которая и помогает кузнецу, дружному с ней. Ведь знания кузнеца, умение работать с раскаленным металлом и «лепить» из него что только душа пожелает, всех поражали. Даже просто стоять в дверях тесной кузницы и смотреть на ловкую работу было увлекательно. Кузнецы в деревне были и зажиточными людьми: ведь они за работу получали «живые» деньги, а деньги в жившей полунатуральной жизнью деревне были редкостью.
НЕ ЗНАВШИЙ ПОКОЯ
Изба, двор, вся усадьба и ближайшие окольные (то есть находившиеся около, близко, рядом) угодья были не только местом проживания. Прежде всего это было место приложения труда. Ведь крестьянин был труженик. Даже В.И. Ленин, ненавидевший крестьянина, как ненавидело его все мещанство ( а кто же, кроме ненавистника, мог сказать об «идиотизме деревенской жизни»?), вынужден был признать, что крестьянин-де, с одной стороны – труженик, а с другой – собственник. Да разве может быть труженик – не собственником?