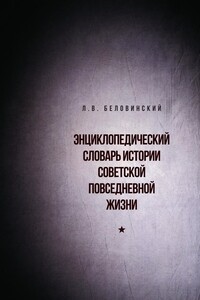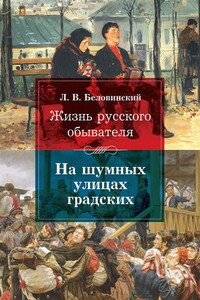Изба и хоромы | страница 71
Необходимейшей принадлежностью деревни были колодцы, своеобразные общественные центры. Один колодец мог быть на всю небольшую деревню, или на несколько усадеб, иногда же наиболее рачительные хозяева рыли колодец у себя на огороде, но, как правило, на краю его, выгораживая колодец таким образом, чтобы к нему был доступ с улицы и за водой могли приходить соседи. Рыли колодцы специалисты-колодезники, артелями ходившие по деревням. Проблема была не столько в том, чтобы вырыть сам колодец и укрепить его деревянным, лучше всего дубовым срубом, сколько в том, чтобы найти водяную жилу. Старший в артели, обычно старик или пожилой мужик, искал воду с помощью специальной рогатки, лозины, очищенной от коры и разделявшейся на две равные веточки. Лозу легко зажимали в ладони и, держа ее параллельно земле, ходили туда-сюда по улице, ожидая, когда, под влиянием тока воды, она повернется. Сейчас лозу с успехом заменяют две изогнутых под прямым углом проволоки. Нужно подчеркнуть, что поворачивается лоза или проволоки в руках не у всякого человека, что и было неоднократно проверено автором этих строк, которому самому пришлось искать место для колодца.
Кроме того, поздно вечером смотрели, где гуще садится роса, где раньше всего и гуще начинает оседать туман. Да, наконец, для чего-то же есть и интуиция искушенного человека...
Над неглубоким колодцем устраивался журавль. Возле колодца, на некотором удалении, в землю глубоко врывался столб с рассошиной на конце, и в рассошине на шарнире ходила прочная неравноплечая жердь. На коротком ее конце закреплялся массивный груз, например, обрубок бревна, на другом с помощью крюка цепляли длинный шест. Женщина цепляла ведро за шест и опускала его в колодец, а затем легко поднимала полное ведро, уравновешенное грузом на конце журавля. Для глубоких колодцев журавль не годился: слишком длинный должен быть шест и слишком высокий столб. Здесь устраивался на двух столбах ворот из короткого бревна, на конце которого крестообразно закреплялись две крепкие палки-ручки или даже делалось деревянное колесо со спицами. На ворот наматывалась цепь, на конце которой висела окованная полосовым железом бадья, ведра на два – два с половиной. Качнуть поднятую бадью, чтобы она стала на край колодезного сруба, одновременно слегка отпустив цепь, не так просто: автор в детстве чуть не лишился руки, упустив в колодец тяжеленную бадью. Воду берегли от загрязнения, поэтому обычно над колодцами с хорошей водой устраивалась сень, навес на столбах, либо же колодец закрывался крышкой. К колодцам по воду собирались женщины, надолго задерживавшиеся здесь. Это было что-то вроде женского клуба: здесь делились новостями, судачили о мужьях, перемывали косточки товаркам. Колодец был чтимым местом: во-первых, сюда могла забраться еще одна нежить, также называвшаяся колодезником, либо водяной, который мог утащить неосторожную женщину в колодец; во-вторых, по состоянию воды в колодце осенью судили о погоде на зиму: если вода волновалась, зима будет ведренной, метельной. В-третьих, колодцы посвящались чисто народной святой, Параскеве-Грязнухе, которую иногда путают с Параскевой-Пятницей. Имея в виду все это, сень над колодцем иногда увенчивали крестом. Ходили по воду и на родник куда-либо за деревню, на реку. Конечно, из дальнего родника воду носили только для питья. Родники сообща благоустраивали: расчищали, ставили невысокий сруб, нередко с сенью над ним, устраивали деревянную трубу, из которой текла вода. Родники непременно посвящались Параскеве, и на деревья вокруг них женщины вешали полотенца, рубашки или просто кусочки холста.