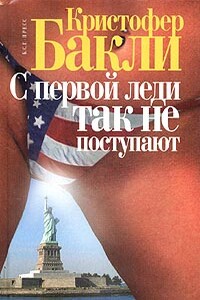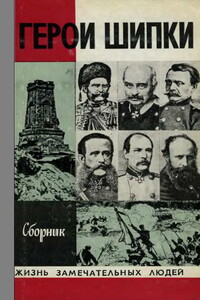Прощайте, мама и папа | страница 16
Буря не утихала. Папа, Дэнни и я отправились поесть в «Прибрежную таверну» Джимми. Мы заказали по «Кровавой Мэри», пива, вина, сэндвичи «Рубен»[14] с кольцами лука. «Пойдем в кино?» — спросил папа, мгновенно перенеся меня на пятьдесят лет назад. Когда я был маленьким, то в летние вечера, после обеда, он обычно говорил: «Пойдем в кино?» И я бегом бежал за «Стэмфорд эдвокат», где печатали афишу. Мы прыгали в машину, с трудом успевали к началу фильма, а через пять минут папа уже храпел, как цепная пила. Мама толкала его: «Голубчик, проснись», — после чего голубчик открывал глаза, смотрел на Гари Купера (или кого-нибудь другого), разыгрывавшего на экране какую-то сцену, и громко спрашивал: «Дорогая, кто это там? Что он делает?»
Я сказал ему: «Ну да. Почему бы нет?»
Папа странно улыбнулся и произнес: «Полагаю, теперь мы можем делать все, что хотим». И тут мне пришло в голову, что за пятьдесят семь лет ему в первый раз не надо думать о том, что скажет мама. Он мог делать, что ему заблагорассудится. Собственно, обычно он делал что хотел — печатая это, я невесело хмыкнул, — однако это droit de seigneur[15] на собственную жизнь довольно дорого стоило. В кино мы не пошли. Папа устал, и ему требовалось поспать. Около пяти часов из своей комнаты над гаражом мне позвонил Дэнни и сообщил, что папа собирается в церковь. Я сказал, что тоже пойду.
Обычно я не ходил. Обычно, оказываясь дома по воскресеньям, я благоразумно удирал на то время, когда папа, собрав своих испанцев, ехал в церковь Святой Марии, где обходительный священник служил на латыни особую службу. Папа был традиционным католиком, то есть открыто не повиновавшимся Второму Ватиканскому собору (1962–1965). Одной из реформ этого собора, если не считать абсолютно понятную литургию, был Знак Мира, то есть когда священник требует, чтобы все повернулись друг к другу лицом и обменялись рукопожатиями или поцелуями, обнялись, похлопывая друг друга по плечу, и т. д. Несмотря на свое парадипломатическое христианство, папа нашел эту «кумбайю» запредельной, и за десять секунд до неминуемого действа падал на колени и закрывал лицо ладонями в пылкой молитве.
Тогда, насколько мне помнится, в церкви был не его день, поэтому я отправился с ним вместе под все еще лившим дождем. Во время службы папа плакал. А потом он сказал Дэнни, мол, он «счастлив», что я пошел вместе с ними.
Мы с папой пережили нашу собственную столетнюю войну из-за отношения к религии. В конце концов выдохлись. Я, будучи лицемером, трусом или мудрецом, выставил на фасаде «Потемкина» сообщение о своем возвращении в лоно церкви. Мой агностицизм, когда-то откровенный, ушел в подполье. У меня больше не было желания вывешивать свои тезисы на церковных воротах. А теперь я знал, что у нас осталось немного времени, и не хотел проводить его в теософских дискуссиях, разрывавших папе сердце.