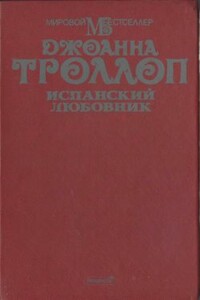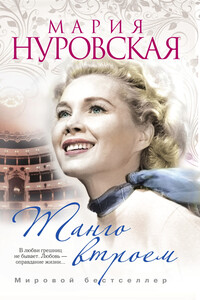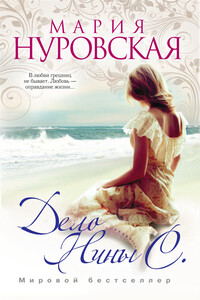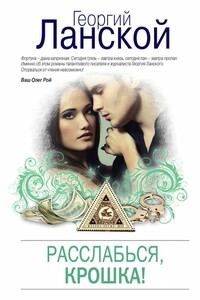Другой жизни не будет | страница 28
Стою я однажды над рекой и смотрю, как она рвется между берегами, как ветки за собой течение уносит. Если бы у дерева был голос, то вода бы все равно корни подмыла и ветви повырывала. Что ему с того голоса? Лучше уж в молчании. А если бы я вот так, головой в омут, и смотрю себе, смотрю на водоворот… Но нельзя, не одна я. Там во мне человечек колотится, о своей судьбе спрашивает. Двинулась я в сторону дома, а мысль, холодную, как смерть, уже второй раз от себя отогнала…
Ксендз говорит, в Варшаве перемены. Партийный и государственный аппарат чистят, а мошенники у власти. Для скомпрометированных людей не может быть места. А я думаю, как там у Стефана дела. Ведь он с теми был, кого под зад коленкой гонят. Ксендз головой кивает, не бойся, Ванда. У власти одно лицо, и своих детей она умеет наградить. Даже когда розгами высечет, потом приласкает.
Утром еще с теткой горох перебирала, а под вечер так меня прихватило. Воды прямо на пол в кухне отошли. Тетка перепугалась, кусок белой ткани принесла и лечь приказала. Сухо там в тебе, не двигайся, а то ребеночка, не дай Бог, покалечишь. Ну, лежу я в кухне, а боль меня так и разрывает. Ксендз на велосипеде поехал в соседнюю деревню за акушеркой. Та пришла, что-то пощупала и тетке шепчет, что ребенок-то от белого света отвернулся, не головка у него, а ножки выглядывают. Ну, думаю, конец мой приходит. Ждала я ребенка без радости, потому клубок новой жизни не раскрутится, да и мою нитку оборвать может. Будь что будет, снова думаю я, только чтобы не страдать сильно, чтобы побыстрее это случилось. Закрыть глаза и очнуться уже на том берегу. А есть ли он, тот берег, ведь никто его из живых-то не видел. Женщины надо мной склонились, потерпи, Ванда, „скорая помощь“ уже в дороге. Хотела я им сказать, зачем вы, люди, стараетесь, я уже по тому свету шагаю, но меня такая слабость взяла, что сил не было голос подать. Даже страдания затихли, сон веки мои слепил. Стены того света темными и далекими казались…
Живот мой разрезали и ребеночка в нем нашли целехонького и здорового. Большой, четыре с лишним килограмма. Сном я больничным спала, и он в тишине родился. Я так удивилась, что еще тут, среди живых нахожусь. Рукой до живота — а он плоский. Может, девочка, думаю. Нет, мальчик. Значит, второго вылитого Стефана я из себя выродила. Этот уж со мной останется, этого уж он при себе держать не захочет.
После разреза мне дольше лежать пришлось, что-то там не хотело заживать, в одном месте гной собирался, мне дренажную трубку вставили. А все мазало и мазало. Но стоило немного потерпеть, потому что нашла я тут близкую себе душу. Она приходила ко мне, сначала лицо умывала, руки, пока у меня сил не было себя обслуживать, а потом просто заглядывала, чтобы поболтать. И так слово за слово, стала меня уговаривать, чтобы я в дом ксендза не возвращалась. Ну, что это за будущее для меня и для ребенка? Хозяйство ксендза после тетки принять? Лучше в Белостоке остаться, присмотреться, работу какую-нибудь поискать. Может, курсы окончить или училище. Для учения я уж слишком старая, говорю. Какая же там старая, женщина в тридцать лет, самый мед жизни! Да я же последний раз книжку в руках держала только при немцах. Все уж забыла. Вспомнишь, начало трудным будет, а потом найдешь то, чего ты и не теряла, то, что в тебе все время было, только не подозревала об этом. Может, она и права, думаю. Стефан ведь тоже на эту деревню носом крутил, Белосток упоминал.