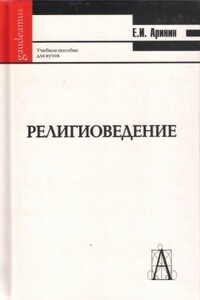Философия религии: принципы сущностного анализа | страница 73
Эпосы, как и волшебные сказки, характеризуются «аристократизмом» противопоставления личности и традиции, поляризацией «эгоизма» и «альтруизма» как свободно избираемых («произвольных») стратегий поведения. Индивидуалистически–эгоистическое как «дикое», «звериное», «нечеловеческое» начинает противопоставляться альтруистическому как собственно «человечному», истинному, традиционному и культурному, земледельческому. Сам мир дифференцируется на «стихийно–дикий» и «человечно–культурный».[338]
В. Я. Пропп указывает на поразительную универсальность сказки и ее бессмертие: «Ее в такой же степени понимают не приобщенные к цивилизации представители народов, угнетенных колониализмом, как и стоящие на вершине цивилизации умы, такие как Шекспир, или Гете, или Пушкин»[339]. Она выступает как «универсальное средство международного взаимопонимания». Проводя различие между «мифом» и «сказкой» в их социальной функции, то есть в том, что «миф» — сакрален, в него верят, а «сказка» — занимательна, воспринимается как «небывальщина»,[340] В. Я. Пропп тем самым утверждает и то, что «субстратно», на уровне современного восприятия текста повествования, невозможно строго различить «миф», «эпос», «сказку», «былину» — везде есть «вера в сверхъестественное», все они — «ненаучны». Однако и «ненаучное» может быть очень важным и ничем не заменимым средством социального воздействия и коммуникации не только между поколениями, но и целыми культурными регионами.
Осмысление проблем добра и зла неизбежно оборачивается богоборчеством, борьбой с духами или богами зла, то есть а–теизмом, ибо иначе, вне теологического контекста, зло тогда не могло осмысливаться, категоризироваться и, следовательно, существовать. В роли «зла» могли выступать «чужие» боги, боги иных этносов или «свои», которым отказывали в почитании, и собственно греческий термин «atheos» с глубокой древности применялся в этом смысле.[341]
Собственно традиции скептицизма, свободомыслия и гедонистического следования «голосу сердца», характерные для всех этапов развития цивилизации, появляются в результате детрадиционализации индивидуального самосознания уже в первых городах, противопоставляясь жреческим теологиям.[342] Отказ от цивилизованных теологий был часто возвратом к более древним или провинциальным, бытовым мифам, поскольку цивилизованные были именно «городскими», «столичными», и смена столиц неизбежно вела к смене государственной религии, принятого жреческого корпуса. Постепенно утверждается идея о «вездесущем, невидимом боге, посещающем сооруженные в его честь храмы и вселяющемся в свои скульптурные изображения».