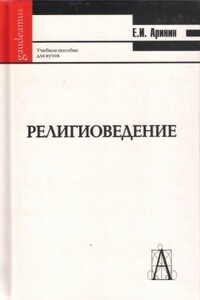Философия религии: принципы сущностного анализа | страница 71
В архаичной мифологии существует органичное единство духовной и физической активности человека. Древнейшие термины «жизнь», «душа», «тело», «кровь», «дыхание» были синонимами и носили «натуралистический» характер, где вещественное не мыслилось без духовного, а духовное — без вещественного.[327] В этом смысле говорят об «антропоморфности» мифологического мышления, радикально противопоставляя его современному, объективистскому, «научно–рациональному».
На «запутанность и сложность» понятий «анимизма» и «антропоморфизма» и их подлинной роли в истории духовной культуры, на относительность «деантропоморфизации» собственно современного «научного мышления» справедливо указывал Е. В. Кулебякин.[328] Сегодня осознается эвристичность применения «человеческих» понятий к «нечеловеческим» системам, особенно в кибернетике, зоопсихологии и т. п., что, естественно, не означает их сущностного отождествления.[329] В то же время, как иронично замечает А. Н. Чанышев, известно много рассказов о встречах с инопланетянами, проистекающих из «очеловечивания» неординарных наблюдений.[330] На «естественность» таких восприятий действительности в ряде случаев обращают внимание и психологи.[331]
«Антропоморфизация» и «деантропоморфизация» задаются сознательным или стихийным, интуитивным уподоблением того или иного феномена человеку, что само по себе амбивалентно, ибо оно является и исторически первой формой понимания неизвестного через известное, и вторичной, современной формой иллюзорного, мнимого и «суеверного», «фантастического» объяснения некоторых событий. Последнее возможно утверждать только и относительно собственно «объективного» объяснения тех же событий. Методологически здесь необходимо различать два аспекта текста — символизацию и коммуникацию, интерпретацию и дешифровку.
Отделение мифа от обыденной речи, обретение им специфических черт — членения, ритмики, обобщенности — сделали его фундаментальным средством символического освоения человеком мира.[332] Миф выступил как «Традиция», или универсальное (для конкретного сообщества) описание, обобщение и обоснование личностного мироотношения. «Мифу» как «священной традиции» противопоставлялась «сказка» как занимательное повествование о «трикстерах» («дурачках», «посмешищах», «неумехах»), отпавших от традиции, не сумевших идентифицироваться с ней и обреченных на неизбежную гибель, или, прямо противоположно, «хитрецах», «озорниках», «плутах», слабых силами, но благодаря хитрости, уму и изворотливости побеждающих более грозных и сильных соперников.