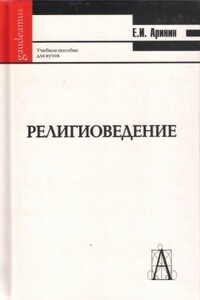Философия религии: принципы сущностного анализа | страница 62
Прежний порядок квалификации общественного объединения как «религиозного» регламентировался «Правилами регистрации уставов (положений) религиозных объединений», выделявшими ряд объективных признаков: «наличие вероучения и религиозной догматики; совершение богослужения и религиозных обрядов и церемоний; проповедническая деятельность; религиозное обучение, воспитание и иные формы распространения вероучения».[286]
Общим признаком, характеризующим общественные и религиозные организации (объединения), признается общность интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, то есть некоммерческий характер их деятельности.[287] Очевидно, что такой критерий носит слишком неопределенный характер, не позволяя различить православную общину и кружок вышивания или футбольный фан–клуб.
Последняя советская Конституция гарантировала «право исповедывать любую религию или не исповедывать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду»[288]. Тем самым утверждалось равенство как «религии» (исповеданий), так и «атеизма» (марксистско–ленинского мировоззрения) как государственных традиций, как легитимных форм личностной самоидентификации, предполагающих соответственные формы поведения — «отправлять культы» или «вести пропаганду».
Этим государство утверждало неравноценность легитимных форм мироориентации, религия допускалась лишь в пределах ее собственной сферы, тогда как атеизм мог через пропаганду расширять сферу своего влияния. Наряду с этими терминами использовалось и общее понятие «отношение к религии», которым охватываются все его типологически возможные формы, подразделяемые на «вероисповедание», «атеизм» или «индифферентизм», хотя при этом и отмечалась необходимость дальнейшей разработки эмпирических признаков (показателей) религиозности.[289]
В постсоветском Законе СССР «О свободе совести и религиозных организациях» 1990 года употребляется понятие «убеждения, связанные с отношением к религии», которые можно было «распространять».[290] Тем самым фактически было признано сущностное неравенство категорий «религии» и «атеизма», зависимость «атеизма», именно как «а–теизма», от «теизма», без которого он просто невозможен уже по самому определению, и уравнивались права легитимных мироориентаций на открытость, пропаганду, распространение. Этим утверждалось и признание более высокого — объективно–надличностного — статуса религии в отличие от более низкого – личностно–идеологического – статуса той или иной социальной доктрины, создаваемой в политических или иных интересах, к категории которых относятся «атеизм» и «индифферентизм». В литературе же советского периода религия, наряду с марксизмом, квалифицировалась именно как «идеология».