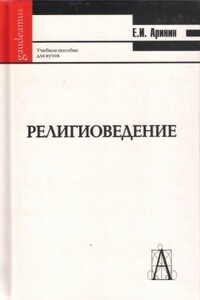Философия религии: принципы сущностного анализа | страница 2
Многолетние традиционные представления о религии преимущественно как об иллюзорном отражении действительности, носящем принципиально антинаучный характер, породили сегодня обратную картину. Теперь нередко все светское начинает считаться «атеистическим», «безбожным» и «бездуховным». Да и в самой религии допустимыми порой начинают считаться только традиционные формы (православие, ислам, буддизм или даже шаманизм), тогда как так называемые «новые религии» безоглядно осуждаются как «тоталитарные секты». Такого рода терминология встречается не только в конфессиональных, но и в секулярных изданиях.
Очевидно, что отмеченные социальные тенденции нуждаются в глубоком и всестороннем осмыслении, требующем как широких социологических исследований, так и глубокого методологического анализа. Крушение государственной идеологии и возникновение своего рода «рынка идей и мировоззрений» пробудили в первые годы перестройки взрывной интерес не только к традиционным для России религиям, но и к совершенно новым религиозным движениям, частично пришедшим к нам из других стран, а частью возникшим на нашей почве.[2] Массовыми и обыденными явлениями сегодня стали различные эзотерические курсы и сеансы, многочисленные оккультные издания, оздоровительные «духовные технологии» и спортивные школы восточных единоборств, опирающиеся на определенную духовную практику.
Самым существенным образом ситуация сказывается на системе образования, традиционно ориентированной на передачу знаний и ценностей от одних поколений к другим. «Деидеологизация» образования, призванная освободить программы и учебные курсы от устаревшей политической софистики, грозит обернуться децивилизацией и деаксиологизацией, разочарованием в каких бы то ни было ценностях вообще, помимо сугубо прагматичных и «ощутимых». Вакуум легитимных, поддерживаемых государством и принимаемых гражданами ясных духовных приоритетов заполняется могущественнейшей магией и мифологией средств массовой информации, властью многочисленных имиджмейкеров.
Духовное возрождение, на которое иногда делали и делают еще сегодня ставку как на волшебное средство решения политических и экономических проблем, очевидно, не оправдывает возлагавшихся на него упований. Само по себе, без взвешенной и продуманной государственной политики в тонкой и болезненной сфере взаимодействия убеждений, стихийное возрождение оборачивается феноменами «Великого Белого Братства» и «АУМ Сенрике», раскованностью эротизма и мистикой оккультизма, преступностью сатанизма, вспышками фанатизма и нетерпимости самого разного рода, осквернением кладбищ, памятников, культовых зданий, оскорблениями чувств верующих и убийствами духовных лидеров.