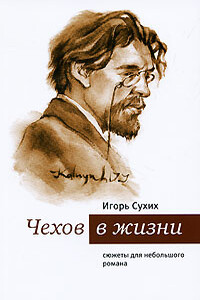Сказавшие «О!» Потомки читают Чехова | страница 28
Биолог назвал бы чеховский принцип — экологическим. Сожительство для Чехова — решающее начало. Никакого действия в его драмах нет, а есть только соседство с вытекающими из него неприятностями.
Чехов забирает сачком пробу из человеческой „тины“, которой никогда не бывало. Люди живут вместе и никак не могут разъехаться. Вот и все. Выдать им билеты — например, „трем сестрам“ — и пьеса кончится”40.
“О новаторстве Чехова-драматурга говорили как о возведении художником в принцип своих органических недостатков”41, — резюмирует общую тенденцию А. И. Роскин.
Наиболее интересные объяснения чеховской драмы предлагали театральные люди. Немирович-Данченко со Станиславским открыли подводное течение, Мейерхольд вслед за А. Белым увидел символизм “Вишневого сада”. Но такие наблюдения были эпизодичны. Еще в конце тридцатых годов (некоторые подобные суждения Скафтымов приводит) чеховская “с и с т е м а построения драмы” не была объяснена именно как система.
Эту задачу и ставит в своей работе А. П. Скафтымов: “Настоящая статья является попыткой рассмотреть конструктивные особенности пьес Чехова как выражение особого жизненного драматизма, открытого и трактованного им как принадлежность эпохи”.
Скафтымов исходит из того, что воспроизведение быта, а не событий является исходной тематической установкой чеховской драматургии. “Будни жизни с их пестрыми, обычными, внешне спокойными формами в пьесах Чехова выступили как главная сфера скрытых и наиболее распространенных конфликтно-драматических состояний”. (Эта мысль близка идее Замятина о воспроизведении в молекулярной драматургии Чехова органических, а не катастрофических эпох.)
Отсюда вытекает новый тип конфликта, имеющего не персонально-личностный, а трагически-обобщенный характер: “Возвышенным желаниям противостоит жизнь в ее текущем сложении”.
С ним связан “маятниковый” характер драматического действия, которое не столько движется, сколько колеблется вокруг исходного состояния “привычной, тягучей, давно образовавшейся неудовлетворенности”. “Дальнейшее движение пьес состоит в перемежающемся мерцании иллюзорных надежд на счастье и в процессах крушения и разоблачения этих иллюзий”.
Подобной структуре действия отвечает и система персонажей, не противопоставленных друг другу по принципу герой — антигерой, порок и добродетель, а объединенных сходством судьбы, удела человеческого. “В “Чайке”, в “Дяде Ване”, в “Трех сестрах”, в “Вишневом саде” “нет виноватых”, нет индивидуально и сознательно препятствующих чужому счастью. <…> Кто виноват? Такой вопрос непрерывно звучит в каждой пьесе. И каждая пьеса говорит: виноваты не отдельные люди, а все имеющееся сложение жизни в целом. А люди виноваты только в том, что они слабы”.