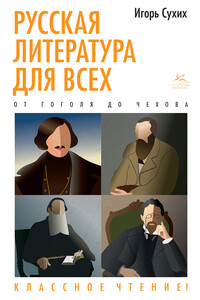Сказавшие «О!» Потомки читают Чехова | страница 19
М. А. Каллаш иногда затрагивает темы, которые начали обсуждаться много позднее, и предлагает остроумные формулировки, подробно их не развертывая.
О чеховской неиерархичности, отсутствии у него привычно понимаемого героя: “На самом деле героев, как таковых, в литературно принятом смысле этого слова, у Чехова, собственно, нет. У него совсем нет персонажей, выдвинутых на первый план или личными свойствами их характера, или обстоятельствами. <…> Чехов как будто никому не отдает сугубого предпочтения: для него все люди в равной мере интересны и важны, ибо они все „все же люди“”.
Об особой природе чеховского трагизма: “Трагическое у Чехова не похоже на общепринятое чисто классическое содержание этого понятия. Его занимает не сильная борьба сильных характеров, не катаклизмы неразрешимых противоречий. Чтобы чувствовать трагедию, Чехову совершенно не нужно создавать трагических героев в духе Шекспира, ибо человеческая жизнь сама по себе уже есть трагедия, и одиночество человеческой души трагично”.
О “главном герое”, доминанте чеховских пьес: “Главное невидимо действующее лицо в чеховских пьесах, как и во многих других его произведениях, — беспощадно уходящее время”. (Эта мысль понравилась Бунину и в чем-то примирила его с чеховской драматургией, которую он упорно отрицал.)
Иногда в замечаниях видятся чисто женская ревность и солидарность: идя против общего мнения, Каллаш защищает Книппер, в том числе и от мужа. “…Трудно себе представить нечто более скучное, даже неостроумное, как письма Чехова к его жене, знаменитой русской артистке, женщине редкого дарования, вкуса и ума, на которой он женился по любви незадолго до своей смерти”.
Но для автора “Сердца смятенного” очевидно главное: мы имеем дело не с бытописателем безвозвратно ушедшей эпохи, подобном Арцыбашеву, Л. Андрееву, даже Горькому, а с писателем, поставившим глубокие духовные вопросы, значение которого в мире будет расти: “Чехов выдержал смену эпох не потому, что он всегда был дорог литературно развитому читателю и привлекателен как человек, а потому, что охват его художественного кругозора, глубина его вникания в вечные основы человеческого сердца далеко оставили за собою литературную ценность мастерски им написанного русского „жанра“.<…> Ценность и сила Чехова в подслушанной им тревоге человеческого духа, тревоге, стоящей недосягаемо высоко над самыми важными и насущными вопросами земного бытия”.
Л. Я. Гинзбург замечала: “Историко-литературные работы удаются, когда в них есть второй, интимный смысл. Иначе они могут вовсе лишиться смысла”27. В книге М. А. Каллаш