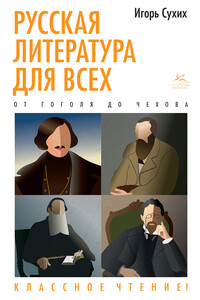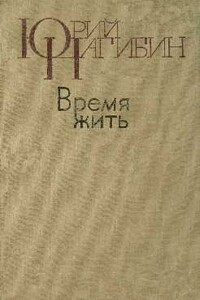Панк Чацкий, брат Пушкин и московские дукаты: «Литературная матрица» как автопортрет | страница 4
Предложенная оппозиция уязвима в каждой части.
То, что от лица простых читателей, подписавших предисловие, выступают два дипломированных филолога, можно счесть признаком невинного демократического амикошонства. Я и сам в учебных текстах предпочитаю подобное “мы”.
А вот в ссылке на особое устройство писательского ума содержится больше лукавства (или непонимания). Попытка выгородить особую писательскую историю литературы, куда искушенным филологам со своими критериями вход запрещен, при ее последовательном применении ведет в абсурдный тупик.
Положим, вдохновленные успехом “Литературной матрицы” свой литературный канон предложат врачи или – почему бы и нет? – рестораторы (книги о кулинарном репертуаре русской драматургии и о поэтике запахов уже существуют). И они с порога заявят: у нас тут особые правила, распространяющиеся лишь на искушенных поваров или мастеров скальпеля. Писатели написали – и могут быть свободны, в глубинных вопросах разберемся без них.
Ходить в чужой монастырь со своим уставом – занятие (в зависимости от обстоятельств) то ли опасное, то ли смешное. Даже если этот монастырь находится по соседству и кажется совсем своим.
От “писательской филологии” действительно ждут чего-то более оригинального, чем от скучных историков литературы. Но сравнивать следует не ожидания, а результат.
Критерии для оценки того, что получилось из рассказов о писателях, не надо искать на стороне. Они те же самые: оригинальность наблюдений, точность выражения, учет исторического контекста, системность в характеристике автора и произведения.
Филология как интерпретация (в ней есть много других аспектов) – искусство чтения. Нечто более глубинное находится на филологическом пути, а не в противоположном направлении.
3. У меня легкость необыкновенная в мыслях.
Все тексты сборника, если судить по подзаголовкам, — микромонографии о русских классиках двух последних веков. Статья о писателе – жанр понятный и привычный. Это обычно критико-биографический очерк, то сжатый до размера предисловия или главы учебника, то расширенный до объема книжки (по ним обычно готовятся к урокам учителя и к экзаменам студенты).
Формула этого жанра проста: биографическая канва плюс более или менее подробные разборы отдельных произведений с выделением ключевых, входящих в канон и акцентированием смысловых и эстетических доминант.
В отдельных случаях (Островский, Тютчев, Некрасов, А. Толстой) Автор “Матрицы” точно чувствует жанр и создает четкий графический силуэт своего героя (Ю. Айхенвальд с его “Силуэтами русских писателей” — еще один дальний предшественник этой книги). Такие главы можно спокойно включить в хороший школьный учебник без всяких скидок на дилетантизм и субъективизм.