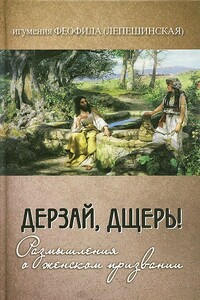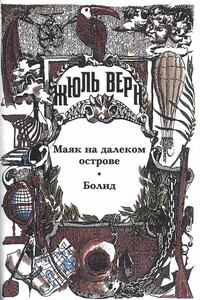Плач третьей птицы | страница 53
Третья в целях сугубого устрашения вызывает провинившихся на ковер после полуночи, вырывая из первого сна, как следователь НКВД; утром матушка, разумеется, отдыхает часов до десяти, в отличие от жертв, поднимаемых в пять, по уставу. Четвертая, выслушав неприятные для нее помыслы, направляет к знакомому психиатру, а та пугает курсом лечения известно где.
Пятая невозмутимо пресекает всякие жалобы на нездоровье: тяжело? терпи, умрешь на послушании – сразу в рай попадешь! Иногда тем и кончается: послушницу, страдающую тяжелой хронической болезнью, подлечиться не отпускали, а когда, наконец,благословили, оказалось поздно, и девушка скончалась, правда успели постричь, в больнице. Игумения, вопреки ожиданиям сестер, ни виноватости своей, ни раскаяния не обнаружила, напротив, возвращаясь с кладбища широко перекрестилась и удовлетворенно молвила: «слава Богу, еще одну проводила!».
Юный Паисий Величковский, когда новый игумен позволил себе ударить его по лицу, немедленно покинул обитель в Любече, хотя для этого и пришлось по льду перейти Днепр. А нынче бывает, вдруг ни с того ни с сего наместник на исповеди приступит к столь же юному, как святой Паисий, послушнику с требованием раскаяться в пакостнейших грехах, уверенно аргументируя разгул собственных гадких фантазий: вижу по глазам! тут уж психика надламывается и конфликт завершается дурдомом, к сожалению, для послушника; восторженные идеалы – преподобный Сергий, старцы, любовь – не выдерживают столкновения с извращенной жестокостью реальных отцов.
Издевательство и тиранство возможны, разумеется, при общности воззрений начальствующих и подчиненных; на стенах собственных келий некоторые смиренники развешивают большие черные плакаты: «ты ничто, никто и звать тебя никак!»[193]. Последствия заниженной самооценки, глубоко и всесторонне исследованные Достоевским, бывают ужасны: с одной стороны, позиция «какой спрос с ничтожества» означает отказ от принципов, стойкости, от всякой ответственности, в сущности, от христианства; с другой – неизбежно следует реванш гордыни, обостряется подозрительность, ожесточение: ведь всякий норовит обидеть слабого, если не отгрызаться; «я-то один, а они-то все!»[194].
Вступивший в монастырь склонен доверять чужому опыту – послушание же! – считая все смиряния вплоть до прямых издевательств допустимыми и даже необходимыми: память подсовывает темничников в «Лествице» и несчастного Сервия в «Сказаниях Нила Мироточивого»; сомнения от контраста с духом Христа и Евангелия изгоняются услужливой мыслью об особом статусе монашества в среде христианства. Идеальное послушание часто маскирует нравственную неразборчивость, стремление к карьере, ради которой приближенные к начальству становятся поощряемыми соглядатаями, доносчиками и гонителями.