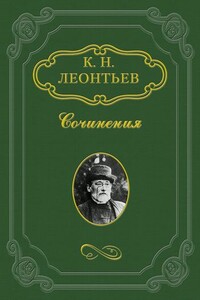Интеллектуальная фантастика | страница 32
Олег Овчинников просто мобилизовал все художественные возможности фантастики и за счет их концентрации преодолел традиционную ориентацию фантастического текста на образцы литературной классики, т. е. на сколько угодно сложный, но все-таки твердо-линейный сюжет, на плавность и последовательность повествования (при какой угодно степени драйва), на «единство действия». От фантастики в романе остались два мотива – во-первых, отлично освоенный фантастами «мир подземки»,[40] во-вторых, «красная конспирология», последние 4–5 лет ставшая одной из популярнейших ветвей отечественной фантастической литературы. Функцию «конспирологического элемента» несет история о потайной ветке московского метро, построенной при советской власти с тайными стратегическими целями... Собственно, вся эта подземная свистопляска нужна автору для того, чтобы показать ускоренный процесс взросления центрального персонажа (крайне инфантильного, весьма зависимого от воздействия людей и обстоятельств), процесс обретения им ответственности за собственные поступки, за собственную любовь. А для ускорения этого процесса Овчинников использует многочисленные флэш-бэки, вставные новеллы, игру стилями, посмодернистский прием установления диалога между автором текста (который сам является персонажем текста) и главным героем произведения. Ему по сюжету необходимо в несколько часов уместить огромный душевный перелом основного действующего лица, поэтому приходится «раздвигать время», выходя за пределы линейного сюжета с помощью полусамостоятельных миниатюр. Всё это, скорее, является апелляцией к аудитории мэйнстримовских текстов. Таким образом, роман сделан на грани интеллектуальной фантастики и ультра-фикшн. Чувствуется влияние текстов Виктора Пелевина, более свободного в компоновке текста, выборе лексики и размещении вставных новелл, чем это принято в хардкоре фантастики или, тем более, в ее массолитовском секторе. В свою очередь, Овчинников перенимает у Пелевина те приемы, которым тот мог обучиться у Мамлеева и отечественных постмодернистов советского периода. Однако за счет фантастической составляющей Овчинников оказывается ближе к традиции западного постмодерна с его лозунгом «Пересекайте границы, засыпайте рвы», поскольку роман «ProМетро» обращен к более широкой аудитории, нежели читательская «элита».
Кирилл Бенедиктов устанавливает диалог с двумя группами квалифицированных читателей. Если это повесть или рассказ, то в подавляющем большинстве случаев адекватно прочитать и декодировать его смогут лишь те любители фантастики, которые хорошо осведомлены в сфере эзотерики и мистики. В ряде случаев требуется осведомленность более широкого, общелитературного характера. Так, большой рассказ «Красный город» сделан в нарочито замедленном, плавном ритме, и, не зная классических текстов западноевропейской литературной мистики второй половины XIX – начала XX столетия, трудно почувствовать бенедиктовскую апелляцию к старой литературной традиции. В двух главных романах московского фантаста, «Война за „Асгард“» и «Путь шута» мистический слой также присутствует и постоянно дает себя знать, но на первый план выводится знание из совсем другой сферы. Обе книги Кирилла Бенедиктова представляет собой части цикла, написанного в геополитическом ключе: автор занимается монографической реконструкцией будущего до середины XXI века. Все основные персонажи выведены прежде всего как представители разных цивилизаций, а сюжетный конфликт подан как цивилизационное столкновение. Соответственно, лишь читатель, углубленный в геополитику, знакомый с основными положениями цивилизационного подхода к истории и ориентирующийся в современной политической культуре, сможет достичь всей полноты понимания этих книг. Не зная, скажем, Хантингтона и Хаусхофера, или, на худой конец, Дугина, читать Бенедиктова можно лишь в полизвилины...