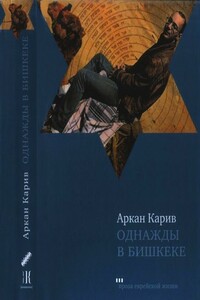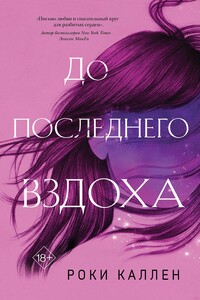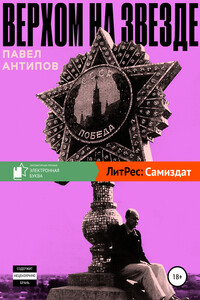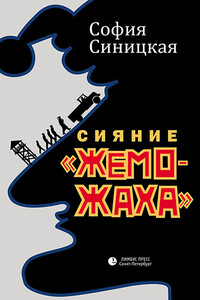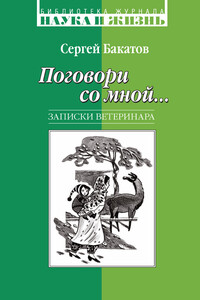Переводчик | страница 60
(Для наглядности — кусочек, всего лишь кусочек из описания того, чем являлся пионерлагерь для героя «Жизни Александра Зильбера»: «Но вот я вижу не столовую вообще, не детей вообще, а себя того, в том именно лагере. Я еще шагаю в общем строю, но слышу уже приближающийся запах и чувствую, как к горлу подступают спазмы. Это пахнет еда, приготовленная для многих. Запах столовой — это символ моего одиночества, моей беззащитности». Это — Карабчиевский. Карив куда короче и лапидарнее: «Шли бы вы в жопу со своим пионерским лагерем!» Конец цитаты.)
Можно, конечно, все это объяснить различием писательских индивидуальностей и т. п. — каждый пишет, как он дышит. Но дело, я думаю, еще и в другом.
«1974–1975», — обозначил Карабчиевский годы написания своего романа. Нет, это я совсем не к тому, что его сочинение будто бы устарело, отнюдь! Просто хочу напомнить кое-что о характере того времени, которое, ясно же, не могло не сказаться на авторе и его сочинении.
Так вот. Написать в ту пору роман и не таясь назвать его «Жизнь Александра Зильбера» — это уже граничило с подвигом. Пагуба безгласности ведь не в том, что о чем-то запрещают писать. Главная пагуба в том, что из-за великого тумана недознаний, экивоков и недосказанностей по-настоящему думать об этом «чем-то» делается весьма затруднительно. Неартикулированная, как сказали бы сейчас, тема грозит так и остаться недоступной никому — ни читателям, ни даже писателям.
Карабчиевский писал о евреях. О русских евреях — в русском, то есть советском обществе. Вернее всего было бы сказать, что он писал о себе. Рассчитывал ли он на читателя? Не знаю, трудно сказать. Если судить по оборотам типа: «А теперь представьте себе…» или «Вы, конечно, знаете…», то чисто гипотетически, — что в «сам»- или «тамиздате» прочтут, — возможно, и рассчитывал. Хотя, быть может, это были всего лишь фигуры речи — ведь любая литература, даже писанная «в стол», — это попытка общения. Думаю, что на самом деле разобраться, объяснить самому себе для Карабчиевского было важнее, чем объяснять другим. Вот и писал, пытаясь ответить на самому же себе поставленные вопросы. Кто — я? Почему я такой? Почему — не как все? Потому что еврей? Но что такое — еврей? И почему их не любят? И где он во мне — этот самый еврей? И только ли в еврействе причина?..
Вопросы, вопросы. Все зыбко, неясно, ничего окончательного. Потому и понадобилось ему так тщательно, словно разглядывая их в микроскоп, воссоздавать нюансы семейного быта, обстановки, отношений между людьми, своих (простите, Зильбера) детских переживаний. Воссоздавать, восстанавливать во всех «подробностях, которые одни только и составляют суть дела» (цитата). А коли так, то надо, просто необходимо описать, например, всю технологию той зашифрованной для постороннего глаза (учительницы или пионервожатой) пытки, которую учиняют одноклассники под дирижерством малолетнего антисемита своему соученику-еврею. Вспомнить (хотя что вспоминать — вот же они, на слуху!) словечки и недомолвки, касаемые лиц «несоциалистической нации в социалистическом государстве».