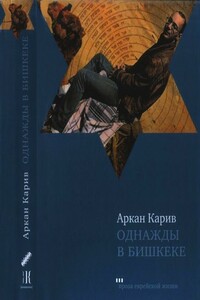Переводчик | страница 36
Эйнштейн бился в судороге: «А-аб! а-аб! а-аб!» Голландка пускала пузыри: «У-от? у-от? у-от?» Но смешнеее всего были мы с тобой. Мы без смеха и взглянуть-то уже друг на друга не могли. От смеха речь крошилась и не давалась. Эйнштейн не сдавался: «А-аб! А-аб! А-аб!» И прорвался, наконец, настырный, взвился песней:
«А-абдолбанное небо! А-абдолбанная пальма! А-абдолбанная мама! А-абдолбанный верблюд!»
Голландка сложилась от смеха вдвое, потому что понимала все русские слова. Мы не удивились чуду. Чудо нас смешило и щекотало. А когда немного отпустило, в мою черно-белую жизнь ворвался цвет.
Вообще-то я по призванию рисовальщик, график. Такой, знаете ли, куртуазный линьерист. Цвет меня никогда не привлекал. Я никогда по-настоящему не мог понять, зачем он нужен. Нет, я не дальтоник. Просто цветной мир кажется мне излишеством. Стоит ли беситься с жиру, когда в мире столько линий и форм? Можно ли разбазаривать зрение на неглавное? Надо ли раскрашивать Маху обнаженную, когда она так прекрасна в черно-белой редакции? Мне на форму целой жизни не хватит, а вы говорите «цвет!»
Аскетизм мой, я знаю, от гордыни. Ведь любой праздник — это излишество, но прожить без него не может никто. А какие с моим гороскопом могут быть праздники? По большому счету только путешествия да трипы…
Во время трипа глаз человека способен смотреть прямо на солнце не щурясь. Интенсивностью света цвет пробивает любую форму. В Синае мне в одночасье открылась та самая красота, которая, по одной версии, спасет мир, а по другой — погубит, что в сущности одно и то же. Главное, что в стационарном состоянии человеку такого не показывают, щадят.
Только-только я начал проникаться небесными откровениями, как поле моего нового зрения бесцеремонно захватили бедуинские дети — маленькие офени плетеных фенечек. О как они были прекрасны, проклятые! И дети, и фенечки. Я имел неосторожность улыбнуться одному. Тотчас на мне повисла разноцветная гирлянда из мальчиков и фефочек и, не веря своему счастью, принялась украшать мои руки и ноги галантерейными хипповскими браслетами, а я щедро раздавал пиастры и фунты. Я орал: «Снимайте! Снимайте! Картина „Зильбер и дети“!»
Ты захотела писать и пошла в море дружить с водой. Вернулась вприпрыжку на одной ноге. Мы так смеялись, так веселились. Я начал промывать порез на ступне, счищать песчинки, чтобы помазать йодом, а ты умоляла: «Ой, не трогай их! Они ведь живые!»
Я слизывал языком рубиновую кровь и глядел снизу вверх в изумрудные глаза.