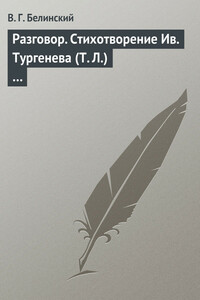Русская фантастика: кризис концептуальности | страница 8
Это ли не путь фантастики? Увы, такие жемчужины поистине рождаются из грязи. Читаем следующее предложение: “– Нефиг радоваться, – угрюмо сказала сфера, журча ручьями. – Я в таком режиме долго не протяну”.
О чем говорить дальше? О божественном? Мифах и проблемах познания?..
Та подлинная фантастика, которая не стремится развлечь читателя, но озабочена проблемами мироздания и существования человека, неминуемо выходит к конфликтам, участником которых становится иррациональное. Путь освоения таких конфликтов начал намечаться со времен Стругацких, однако и по сей день он только и делает, что намечается. Дальше постулирования самого факта его существования дело пока не продвинулось. При встрече с иррациональным герои нашей фантастики пытаются сделать вид, что будут говорить с ним на его языке, но что они, собственно, знают об иррациональном? Только общие аргументы, применимые к его описанию. Такими аргументами авторы и вооружают своих героев, заранее признавая их (и собственную) неспособность познать непознаваемое и не без удовольствия манифестируя границы человеческих возможностей. Аргументы, как правило, следующие: человек несовершенен, а реальность совсем не такова, как может показаться, мир не исчерпывается причинно-следственными отношениями, и абсолютной истины не существует. Казалось бы, такие представления должны открыть им дорогу в фантастический мир, но этого так и не происходит: вместо того чтобы погрузиться в иррациональное и попытаться художественно отразить его, наши писатели-фантасты отгораживаются от него общими словами, непонятным образом выуживая из подобного отчуждения дешевую мораль законодательного масштаба.
В уже поминавшемся романе Дмитрия Глуховского “Метро-2033”, как и в других подобных произведениях о вынужденной самоизоляции определенной части социума, заложена идея новой зари человечества и неизбежно сопутствующего ей мифа. Здесь мы могли бы увидеть отсветы нового сознания, которое стремительно возвращается к архаичным формам или же, наоборот, достигает эволюции. Оно было бы порождено чуждой нам тьмой, а значит, неминуемо надвинулось бы на нас той самой подлинной иррациональностью, к которой нельзя подступиться с привычным восприятием. Но эту идею Глуховский лишь обрисовал общими словами, не раскрыв по сути. Он посадил в каждый туннель по сгустку бессмысленного страха и заставил обычного парня, ровным счетом ничем не примечательного, пройти по пути героя приключенческого романа. Из всех атрибутов иррационального автор выбрал и изобразил один – страх. Порой он, кажется, захлебывается словами, не в силах выдумать новую степень ужаса тьмы, возрастающего от главы к главе: “