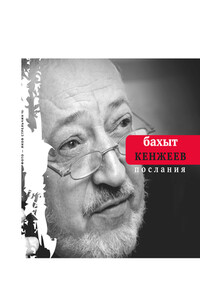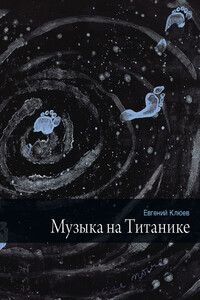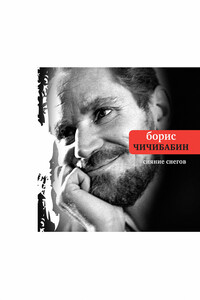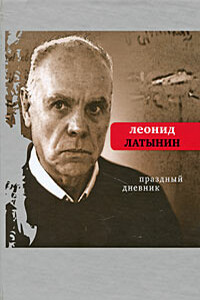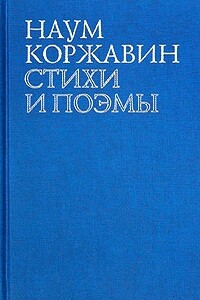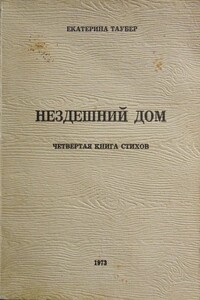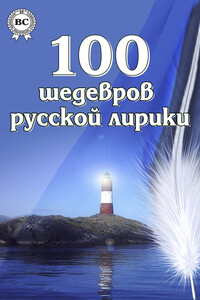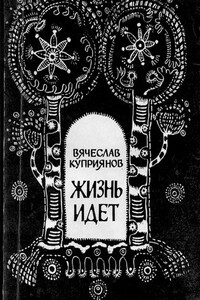На скосе века | страница 12
Из писем Коржавина автору этой статьи оттуда:
«Здесь я слышал одну лекцию о символизме. Читала крупнейший специалист по этому вопросу… Господи, ностальгией заболеть можно, до чего убого! Кожинова читать захочешь. Ей-богу. Дама даже пошутила. Сказала, что в калифорнийской газете «Русская жизнь» (с налётом черносотенства, но не во всём) стихи — как будто во времена Пушкина; никакого движения вперёд. Но это так, это уже изяществом было…
Нет уж, ребята, пишите статьи, поболе — пусть не дразня гусей. Не в гусях тут дело. Может, и впрямь удастся культуру сохранить. Господи, что могла сделать Россия! Это диверсия дьявола против Духа — вывести её из строя. Но всё-таки кое-что осталось и движется. Хотя трудно в эпоху психушек (я не смог, сорвался — а всё-таки надо!). Впрочем, литературная эмиграция показывает отчасти, как трудно было бы в России, если б наступила свобода — кто бы и какие страсти, какие реваншисты стали бы на первых порах более активны. (Пророк! — Ст. Р.) Впрочем, и мы б не дремали. “Первые поры” перетерпели бы…» (1977).
«Вполне уважаю и считаю правильным твоё убеждение, что работать можно только в языковых, географических (и — добавил бы от себя — культурных») границах России. Я никогда и не думал иначе — просто нервы не выдержали…Я очень соскучился по эстетической точности — хотя бы в постановке проблем, а не в их решении. И то, что мы, встречаясь в последние годы, больше говорили на эстетические темы, для меня вовсе не было уклонением от чего-то другого, я бы и сейчас, если бы Бог привёл встретиться, говорил бы о том же. Это очень важные темы. И, может быть, только разговоры на эти темы — не болтовня, а творческая работа. (Здесь это всё подменено разговорами о «форме», «современности», «мастерстве» и прочей дошкольности)…» (1979).
Опять: «…я не смог, сорвался…..нервы не выдержали…» Опять виноватит себя? (И вот в этом смысле как раз решительно противостоя Солженицыну с его несомневающимся авторитаризмом, с его мессианством.)
Именно так — не выходя из состояния трагической вины. Безвинной, оттого неизживаемой. О чём мы уже говорили довольно и о чём невозможно не говорить в контексте русской поэзии, которая, ещё раз произнесу это слово, совестливо сознавала свою неэлитарную предназначенность для многих; желательно бы для всех. (А это не может обойтись без ощущения вечной задолженности, недостижимости желаемого, стало быть, и вины.) Сознавала — вплоть до того, что подчас хотелось даже уподобиться всем.