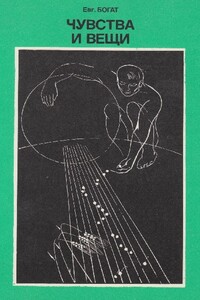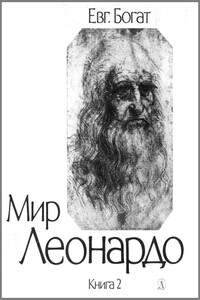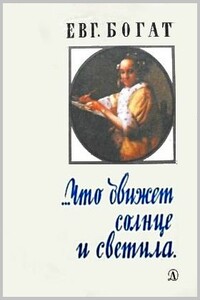Золотое весло | страница 49
«Она живая и смышленая, — писал он самому дорогому в мире человеку, сестре Августе, — с азиатскими чертами лица».
Хатадже была при нем в последние минуты его жизни. Что стало с нею потом?..
Байрон понимал: уберечь одного-единственного ребенка от ужасов войны важнее, чем написать великую поэму, и именно поэтому он писал поэмы, которые живут в веках. Хатадже, или Хато, как уменьшительно он ее называл, была последним на земле человеком, кого коснулась та ни с чем не сравнимая нежность, которая делает бессмертными его стихи.
Это сочетание в одном человеческом сердце жажды титанического, — как при сотворении мира, — действия и нежности, для которой нет точного определения и в лексиконе гениального поэта — в самом деле загадка, достойная философов.
Ответ на нее равносилен, быть может, разгадке самой жизни.
Последними словами Байрона были: «Я оставляю в мире нечто бесценное». Он сказал это по-итальянски.
Без начала и конца
В старой, запущенной библиотеке Дома творчества нашел старый-старый журнал; вечером не было кино, шел дождь; стал читать унылую повесть давным-давно забытого писателя и вдруг почувствовал, что строчки меня обжигают. «…От настоящей работы я становлюсь некрасива; я запираюсь, хоронюсь от всех, а что я получу взамен этого? Я нахожу, что Бенвенуто Челлини, сжигающий свою мебель, делал не столько, сколько я: я бросаю в огонь нечто гораздо более драгоценное…» И дальше: «Почему обыденная жизнь кажется мне невыносимой? Это какая-то реальная сила, живущая во мне, нечто такое, что не способно передать мое жалкое писание. Идеи картины, статуи не дают мне спать целые ночи». И дальше: «О, в будущем году схватить медаль (за картины), и тогда все пойдет, как в каком-то сне! Быть предметом восторгов, торжествовать! Ну а когда вы получите вторую медаль, вы пожелаете получить большую? Разумеется. А потом орден? Почему бы и нет? Ну а потом? А потом наслаждаться результатами своего труда, своих усилий, работать постоянно, постоянно поддерживать себя на известной высоте и пытаться быть счастливой».
Строки эти, возникшие таинственно, вдруг, не имели ни малейшего отношения к тому, о чем я читал до этого. Они были как молния в сумерках. Ими начиналась страница… Я вернулся к первой строке и понял, в чем дело: журнал не раз, наверное, переплетали, как и остальные старые журналы XIX века, и сюда, в самую его сердцевину, попала страница… нет, что я, целых четыре — совсем не отсюда, ну конечно, 117, а затем 33…