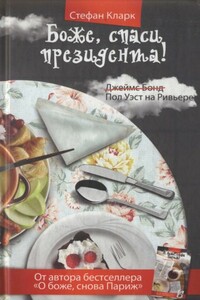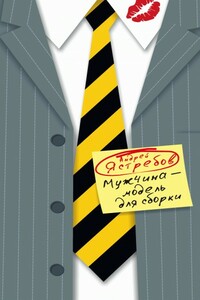Боже, спаси русских! | страница 46
Не стоит забывать, что сказочные сюжеты находятся в тесной связи с мифологическими представлениями народа, а у русских особенно развито представление о «священном безумии» и «священной глупости», о том, что в бессмысленных поступках может быть заключен некий высший смысл – вспомним хотя бы юродивых.
Что касается лентяя Емели, то он уже давно служит упреком русскому народу. Вот, мол, воплощенная мечта бездельника – чтобы ничего не делать, на печи лежать и царскую дочку в жены получить! Осуждение также вызывают всякие плутоватые солдаты и воры, которых тоже хватает в русской сказке. При этом упускается из виду, что все они находятся в непосредственной связи с образом трикстера, героя-плута, присутствующего в мифах всех народов мира.
При этом особый укор со стороны исследователей вызывает приземленность и примитивность крестьянской мечты – есть, пить, отдыхать, жить богато. Как будто у людей, чья жизнь состояла из тяжкого труда и голодухи, могли быть другие мечты.
Е. Н. Трубецкой полон горького негодования: «Венцом этой солдатской и мужицкой мечты является образ простолюдина, который, по завершении опасных и трудных подвигов, от ран "скоро поправлялся, зелена вина напивался, заводил пир на весь мир, а по смерти царя начал сам царствовать, и житие его было долгое и счастливое". Большое внимание уделяется сказкой и жизненному идеалу простого человека, который очерчивается довольно яркими штрихами. Это, прежде всего, мечта о том веселом житье, которое олицетворяется царским пиром: "Свадьба королевича была веселая, все кабаки и трактиры на целую неделю были открыты для простого народа безденежно". В сказке о безногом и слепом рассказывается, как царь поручил мужику добыть ему невесту "краше солнца" и посулил за то сделать его первым министром, но наперед разрешил мужику "погулять", выдал ему "открытый" лист за своим подписом, чтобы во всех трактирах и харчевнях отпускали ему безденежно всякие напитки и кушанья. Мужик прогулял три недели. Народный разгул вообще одна из любимых тем русской сказки; вся социальная утопия сказки окрашивается прежде всего стремлением наесться и напиться вволю».
Статья Трубецкого была написана вскоре после революции. «Нужно ли удивляться, что эти сказки полны образов, которые уже стали действительностью? На наших глазах осуществилась утопия бездельника и вора и мечта о царстве беглого солдата. Захватывают "трехэтажные дома" и чужие кошельки; печатный станок уже давно воплотил в жизнь мысль о кошеле неистощимом, кругом мелькают сапоги-скороходы да ковры-самолеты; все они полны ворами да беглыми солдатами, а дезертир успешно проходит в "набольшие министры" и вместо царя правит царством».