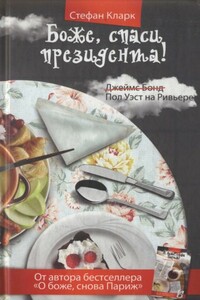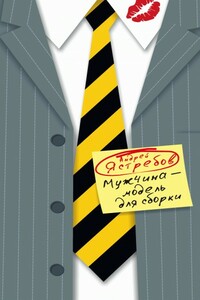Боже, спаси русских! | страница 147
Перенесемся в XVIII век. Послушаем ворчание прусского государственного деятеля Карла фон Финкенштейна: «Русские – пьяницы и лентяи, прежним своим невежеством дорожат, а старания, кои употребил Петр I, дабы их от него избавить, проклинают». Здесь пьянство помещено в одну упряжку с невежеством.
Подоспел век XIX. Естественно, не прошел мимо русского порока и маркиз де Кюстин. Подобно шведу Ерлезунду, он видит причины пьянства в недостатках социального устройства: «Наибольшее удовольствие этому народу доставляет пьянство, иначе говоря – забвение. Бедные люди! Им нужно мечтать, чтобы познать счастье». Похоже, маркиз скорее жалеет русских, нежели осуждает.
Паша современница, журналистка из Финляндии, Анна-Лена Лаурен чрезвычайно деликатна в описании отношений русских с алкоголем. Она связывает совместное потребление спиртных напитков с проявлениями русской соборности. Мало того, она считает языческий обычай выпивать на кладбище, с которым столь упорно и безуспешно борется православная церковь, красивым и полным значения. Анна-Лена воспринимает водку какчасть русской культуры и говорит, что ни разу не видела русского, напившегося до агрессивного состояния... Можем ей только позавидовать.
Взгляд из глубины
Как рассматривает алкогольную проблему сам русский народ? Обратимся к фольклору: «Для праздника Христова не грех выпить чарочку простого». «Одна рюмка – на здоровье, другая – на веселье, третья – на вздор». «Пить до дна – не видать добра». «Работа денежку копит, хмель денежку топит». «Много пить – добру не быть». «Со хмелиной спознаться – с честью расстаться». «Не упиваясь вином, будешь покрепче умом». Вроде бы сплошь да рядом призывы к умеренности и благообразию.
Свод житейских наставлений XVI века «Домострой» давал такие рекомендации: «Пей, да не упивайся. Пейте мало вина веселия ради, а не для пьянства: пьяницы Царства Божия не наследуют. А у жены решительно никоим образом хмельного питья бы не было: ни вина, ни меда, ни пива. А пила бы жена бесхмельную брагу и квас – и дома и на людях». Стоглавый Собор (1551 год) призывал: «Пить вино во славу Божью, а не во пьянство». Веселиться достойно и разумно.
А вот и высокий жанр – «Послание о хмеле». Обличение пьянства происходит на примере горькой участи человека, который из всей палитры жизненных радостей избрал хмель. Притча мрачными красками рисует фигуру героя, попирающего разум и волю. Ни малейшей симпатии не вызывают действия грешника, предавшегося соблазну. Только пост и молитва, убеждает автор, способны преодолеть пагубное пристрастие. Творение древнего автора отличается обилием подробностей, натуралистическим описанием пьяного поведения и неприятных последствий употребления крепких напитков: «Хмель сотворит пьяного душу смрадну, а тело грехопадно, а ум мерзок и непотребен; а проспався, душею явится скареден и тленен, а главою болен, а телесными удесы дробен (не крепок), а сердцем тосклив и скорбен, а умом уныл и печален».