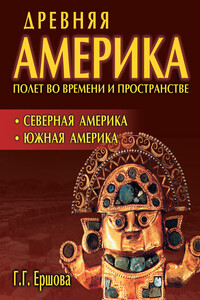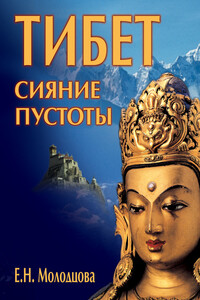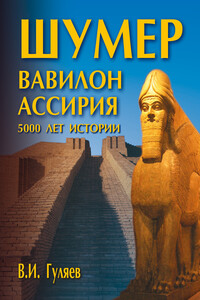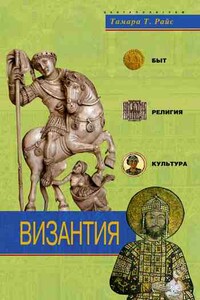Китай: укрощение драконов. Духовные поиски и сакральный экстаз | страница 11
В противоположность этому западная религия стремится стать не только главенствующей, но вообще единственной — она претендует на эксклюзивность обладания истиной и опытом мистического. В этом суть всех религиозных противостояний и войн. Витальность же духовной традиции Китая заключалась в том, что философ или религиозный наставник ни в малейшей степени не обращал внимания на других — сотни небольших школ, сект и учений явились подтверждением этому «расцвету ста цветов». Хотя современные лидеры духовных школ и не прочь порою бросить упреки в «неистинности» наставнику из соседней деревни, это никогда не перерастает в споры о религиозных догматах, символах веры, «правильности» духов, которым следует поклоняться.
Даже лексикон духовной практики выдает эту замкнутость не на учении, а на учителе. Говоря о себе как о последователе Будды, китаец сообщает, что он «поклоняется Будде» (бай фо). Но одновременно он «поклоняется» какому-то конкретному человеку «как своему наставнику» (бай… вэй ши), и, таким образом, не существует разницы между верой, скажем, в Будду и верой в своего учителя — и то, и другое является доверительными семейными связями, в результате которых и передается особая благодать.
Китайская вера неконцептуальна и в этом плане сродни «доверию», содоверительному общению между человеком и Небом. Устойчивость такой системы — в общем, вполне архаической — заключена именно в ее внеконцептуальности, внефеноменологичности, в отсутствии символов и даже объектов веры. Всякая институционализированная религия базируется на неком осевом символе — и в него можно только верить. Все остальное уже логически вытекает из первичного символа. Если уверовать в воскрешение Христа после распятия, то весь остальной христианский комплекс символов, постов, литургий, правил приобретает смысл.
В противном случае это оказывается лишь внешними действиями без содержательного священного элемента. Мир разбивается о единственный элемент, содержащий зерно всего комплекса. В китайских традициях такого осевого элемента не существовало, на его месте стояло установление контактов с миром духов, предков, и, таким образом, кому бы ни поклонялся китаец, он всегда поклоняется предкам, либо своим, либо единым предкам всей китайской нации.
Распространенное предание рассказывает, что когда первый патриарх чань-буддизма Бодхидхарма пришел в VI в. в Китай, он оставил несколько заветов, на основе которых следовало постигать истину. Один из них гласил: «Не опираться на письмена» или «Не использовать письменные знаки» (