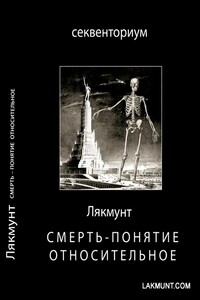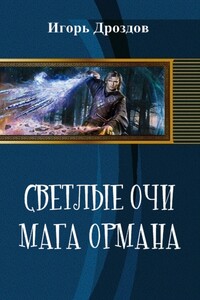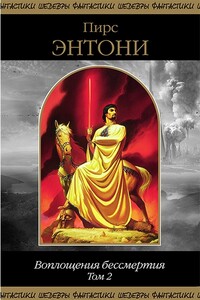Основание | страница 77
Совсем по-другому ведет себя Петров. Мне кажется, что его увлекают наиболее древние рецепты. При этом для изучения он отбирает из этих древних наиболее тёмные и непонятные с точки зрения описания. Я понимаю и его подход. Наверняка в древности были известны секвенции, порождающие столь мощные мираклоиды, что владельцев формул опасение того, что рецепты попадут в чужие руки пугало больше, чем риск того, что эти секвенции сделаются недоступными для наследников и продолжателей их дела. Такие рецепты часто оказывались зашифрованными, причем шифровали их самыми различными способами. Часто использовались иносказания и метафоры, которые мог бы разгадать только очень ученый человек с глубокой и весьма специфической эрудицией. К моему радостному удивлению, Петров оказался именно таким. Оказавшись не слишком впечатляющим лингвистом, скажу прямо, примерно моего уровня, он виртуозно пользовался услугами профессионалов-переводчиков, раскрывая в результате секреты, которые, на мой взгляд, разгадать было невозможно. Я помню, как он расшифровал рецепт оживления пражского глиняного голема. Убедившись с моей помощью, что рецепт действительно содержит формулу некой работающей секвенции, он тут же переключился на изучение скана следующего манускрипта.
Наибольшие затруднения у Петрова вызывали формулы, зашифрованные с помощью намеков и аллюзий, которые могли быть известны только родственникам или близким знакомым владельца. Мне кажется, что Петров особенно был недоволен тем, что и само описание мираклоида было успешно скрыто от его понимания. Думаю, что если бы по описанию можно было понять, что этот рецепт для нас очень важен, Петров приложил бы все силы к расшифровке формулы. Но посудите сами, стоит ли, далеко не будучи уверенным в положительном результате, тратить силы на расшифровку секвенции под названием «Язык синего дракона возрождает дом Цу» (китайская формула, примерно девятого века) или «Теплый синий чулок достопочтенной тетушки Эльзы» (материал из Германии, предположительно XV век).
Зато столкнувшись с настоящими шифрами, когда с помощью того или иного метода кодировки прозрачная формула скрывалась от посторонних лиц, Петров радовался, как дитя – по его словам криптография, как серьезная наука, появилась лишь в начале двадцатого века, а древние шифры разнообразием не отличались.
Во время очередного ланча, когда в душе Петрова боролись удовлетворение от того, что он расколол скорлупу очередного крепкого орешка, с разочарованием тем, что внутри не оказалось ничего интересного, он вдруг решил познакомить меня с историей криптографии. Оказалось, что шифрование применялись уже в третьем веке до нашей эры. Принципом этой древней кодировки была замена одного алфавита на другой. Этот подход мне хорошо известен. Именно таким образом я начал переписываться на уроках со своим другом классе примерно в третьем. Я передавал ему записочку через соседние парты, а нескромные одноклассники пытались ее прочитать. Раскрыв записку, они видели загадочные иероглифы и, преисполнившись уважения, передавали записку дальше. Вскоре мода на секретные алфавиты охватила весь класс. Мне припоминается, что все алфавиты, по сути, были одноразовыми. Уже на следующий день шифровальные таблицы утеривались и бодро создавались новые. Увлечение продолжалось примерно одну четверть, после чего было благополучно забыто. Мода есть мода.