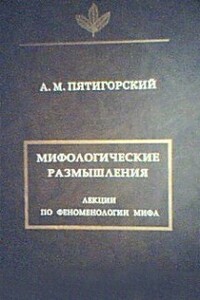Козел отпущения | страница 190
Предупредить читателей, что Иисус говорит притчами, — значит предупредить читателей о гонительском искажении, чтобы они могли его учитывать. В случае нашего пассажа это неизбежно означает предостеречь их против языка изгнаний. Альтернатива здесь немыслима. Не видеть здесь притчевого характера изгнания — значит по-прежнему поддаваться обману насилия, а следовательно практиковать чтение того типа, о котором сам Иисус нас предупреждает, и что его следует избегать и что оно почти неизбежно: «И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано <…> потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют» (Мф 13,10–13).
В этом пункте Марк еще более тесно, чем Матфей, связывает притчу с той системой репрезентации, с которой сражаются Евангелия. Для тех, кто живет в этой системе, пишет он, все «приходит» в притчах. Следовательно, притча, понятая буквально, не выводит нас из этой системы, а укрепляет стены тюрьмы (но было бы неточно сделать отсюда вывод, что у притчи нет задачи обратить слушателя). Именно это означают следующие строки — здесь снова Иисус обращается к ученикам: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все приходит в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся» (Мк 4,10–12*; курсивом— цитата из Ис 6, 9-10).
Даже в евангельских текстах, обычно считающихся «архаичными», в которых вера в бесов вроде бы цветет полным цветом, она на самом деле подвергается упразднению. Так обстоит дело с диалогом об изгнании, который мы только что прочитали, так обстоит дело с чудом в Гадаре. Мы не замечаем этого упразднения, потому что оно выражено на противоречивом языке изгнанного изгнания и гонимого беса. Бес извергается в ничто, которое ему в некотором смысле «сосущностно», в ничто его собственного существования.