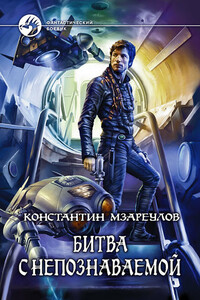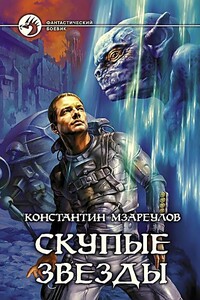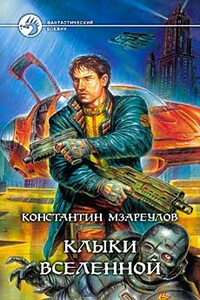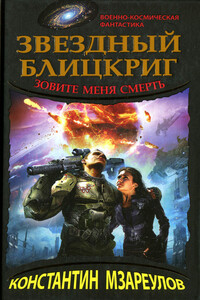Фантастика: общий курс | страница 11
Популяризаторская функция фантастики нацелена на информирование читателя (зрителя) о тех или иных событиях, обстоятельствах, законах и явлениях природы, научных достижениях, представляющих интерес с точки зрения автора, но малоизвестных широкой аудитории. В романах Ж. Верна, А. Беляева, Г. Адамова, Ф. Фармера содержится множество сведений из самых различных областей знания, благодаря чему эти книги превращались в своеобразные энциклопедические справочники. В определенный период советская критика считала эту функцию важнейшей, из-за чего фантастике грозило перерождение в беллетризованную разновидность научно-популярной литературы. В наши дни, в связи с увеличением числа собственно научно-популярных изданий, значение данной функции в фантастике существенно снизилось, однако информационно-просветительская сфера в искусстве (включая и фантастику) сохраняется и, несомненно, никогда не исчезнет.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что перечисленные функции фантастического жанра реализуются, как правило, комплексно, т е. в большинстве произведений присутствуют и прогностические, и воспитательные (реже — полемические и популяризаторские) и, в обязательном порядке, развлекательные элементы, именно совместное воздействие всех этих мотивов, обязательно присутствующих в лучших фантастических книгах и фильмах, обеспечивают жанру устойчивую популярность в читательской и зрительской аудиториях.
§ 2. Что такое фантастика?
Любая наука начинается с определения объекта исследования и классификации имеющегося материала. Следует, однако, признать что строго научной и общепризнанной формулировки терминов «фантастика» и «фантастическое» до сих пор не существует. Подводя итоги многочисленных и в меру бесплодных дискуссий по данному поводу, известный советский фантаст Дмитрий Биленкин в статье «Так что же такое фантастика?», иронизировал:
«Изыскания на тему „Что есть фантастика?“ долгое время походили скорей на поиск Грааля в марк-твеновской интерпретации, чем на научное изучение. В поход отправлялись и случайные рецензенты, с детства кое-что помнившие о Жюле Верне, и сами фантасты, и доктора физико-математических наук — кто только не седлал коней! Результаты оказались непропорциональны усилиям: определения мало что определяли, формулы рассыпались при малейшем дуновении, требования звучали как заклинания»[1].
Анализируя известные определения интересующих нас понятий, поневоле убеждаешься, что Д. Биленкин абсолютно прав, поскольку удовлетворительных формулировок многотысячная армия филологов и литературоведов так и не создала. Чему удивляться, если даже в таком фундаментальном издании, как словарь под редакцией академика Д. Н. Ушакова, определения терминологии, связанной о фантастикой, сильно смахивают на историю с сепулькой из 14-го путешествия Ийона Тихого: