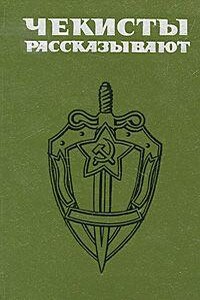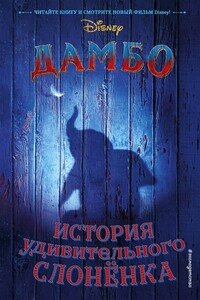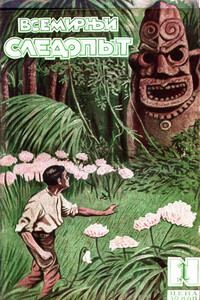Путешествие на край ночи | страница 112
- Голубка моя, родненькая ты, сучка, до всего меня укалякаешь! — нежно сказал Мишка и чмокнул Машку в лоб. — Люблю гадину, доктор, просто до самой последней внутренности обожаю!
Я принес полную махорки наволочку. Мишка нахлобучил картуз и деловито потер
руки.
- Двинулись. Ты после приема садись в кабинку, где работают зубисты, и слушай: я буду в твоей приемной вести допрос. Понятно?
И делопроизводство пошло в ход: сначала сыпались тяжелые удары, слышались негромкое рычание Мишки и заячий писк допрашиваемого больного. Потом получалась наводка.
-
-
-
-
-
-
Удары. Писк.
- Ой, ой! Ей-богу не я, дядя Миша! Ох-ох! Ты покалякай с Толиком-Хромым! Он знает, даст наводку. Понял?
Васьки-косые и Толики-хромые двигались под кулаками нарядчика, как на конвейере.
Часов в двенадцать Мишка отворил дверь.
- Выходь, доктор. Пошли.
Мы пришли в рабочий барак к койке молодого паренька Володи: он на воле работал в чертежной мастерской и украл лист ватмана, за что и отбывал год срока. Заболел. Я его месяца три, сколько мог, держал в моем бараке на хорошем питании. Но, наконец, по требованию начальницы медсанчасти выписал, но не в рабочий барак, а в бригаду выздоравливающих, и опять держал, столько, сколько удавалось. Володя, ласковый, как теленок, помогал мне, как санитар и учетчик. Я спас ему жизнь, но лагерь остается лагерем. Уходя из больничного барака в бригаду отдыхающих, он обокрал меня.
- Поднимайсь. Живо.
- Что ты, дядя Миша? Я…
Мишка сбрасывает его с койки на пол и поднимает матрас. Там лежат тетради и бумага. Бумага аккуратно разорвана на формат игральных карт, тетради порваны на формат писем и уже сложены треугольниками. Они уложены в ровненькие пачки, тщательно пересчитаны, перевязаны бумажной лентой и на ленте стандартным чертежным шрифтом выведено число листов, их назначение и цена как пачкой (со скидкой), так и поштучно. Бумага в лагере — драгоценность, потому что она крайне нужна заключенному, и достать ее негде: что значат крики воспитателей в дни отдыха: "Сегодня почтовый день! Сдавайте письма!", если писать не на чем, если пишут немногие счастливчики, а остальные угрюмо лежат на койках, лицом упершись в стенку? И все же я готов был извинить кражу бумаги. Рукописи, написанные урывками, с опасностью быть пойманным и с чрезвычайным напряжением душевных и телесных сил, были для меня бесценным сокровищем — ведь их было почти невозможно восстановить, их истребление означало гибель труда многих месяцев, но и это я мог простить. Наконец, варварское уничтожение моих иконок являлось ошеломляющим ударом, надругательством над святыней. Однако простить можно было даже это.