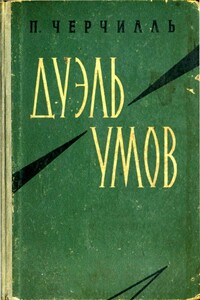Домашний очаг. Как это было | страница 53
Вернулся опустошенный, сломленный. Взглянул в тупое, бессмысленное, зверское лицо войны. Кончилась ликующая юность. Выбито ощущение своей бессмертности.
В его романтической песне звучало: если «лихая беда глаза твои пулей закроет,/ куда твоим братьям податься тогда?/ К Роб Рою, мама, к Роб Рою».
Но ни «братьям», ни ему, уцелевшему, с глазами открывшимися, податься было некуда. Это через много лет, отправляясь в командировку в Англию, он рассчитывал побывать в Шотландии и говорил нам: «Еду к Роб Рою». А тогда, вернувшись с финской, Сергей сводил счеты с романтикой:
Впервые он стал напиваться, где-то пропадал…
На старом Арбате в неказистом кафе, называвшемся «Париж», однажды провели вечер пятеро ифлийцев. Один из них, вспоминая о друге Мише Молочко, рассказывал: «В тот вечер они говорили о жизни, о романтике поколения, о предстоящей войне, так близко уже ощущаемой. И Миша Молочко предложил каждый год в этот день сходиться вместе в этом кафе. „Кто останется жив, должен прийти! Пускай на инвалидной коляске — но явиться“. Этот образ поразил его, и он говорил, мы слушали и соглашались: да, придем, хоть на инвалидной коляске. Потом еще ходили к памятнику Пушкину — поклониться. И совершили обряд, прочитав сначала хором „Памятник“, а потом, сняв ботинки у фонаря и шлепая босыми ногами по мартовскому ночному ледку. Конечно, были навеселе. Было 28 марта 1939 года» (И. Крамов). Прохаживавшимся у памятника милиционер застыл и почтительном изумлении.
Из тех пятерых босоногих оставшиеся в живых Наровчатов и Крамов каждый год 28 марта сходились в этом кафе. К ним присоединился Самойлов.
По дороге на фронт после госпиталя он проезжал Москву и написал Крамову: «Запустение столицы привело меня в грустное настроение. Но письмо Сергея и то, как я сам себя чувствую, заставляет твердо верить, что наше прекрасное начало не пропадет впустую.
Тяжело, что Павка погиб. Но мы остались еще живы и помним Мишкины слова о романтике и войне».
8
Сергей Наровчатов, глубоко травмированный пережитым на финской войне, писал: «Но молодость быстро брала свое, и к началу новой, на этот раз великой войны мы были опять готовы к испытаниям».