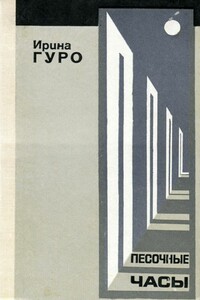Домашний очаг. Как это было | страница 43
Наконец, когда сна в очередной раз отдалась поискам, целая пачка квитанций, хранимых годами, нашлась, и Лидия Корнеевна торжествовала. Она смягчилась и вошедшей, открыв своим ключом входную дверь, приятельнице представила меня, похвалив рассказы или, скорее, автора.
Втроем мы дружно пили чай на кухне.
Из сказанного ею о рассказах мне запомнилось, что я перегружаю их деталями и подобно канатоходцу с нерасчетливым, чрезмерным грузом переступаю по канату, рискуя свалиться, не добравшись до финиша. Я уходила с чувством поддержки при не светившей мне публикации рассказов.
А еще во мне осела боязнь расстаться со старыми и очень старыми квитанциями за оплату коммунальных услуг. Зарастаю ими.
С тех пор больше я рассказы в редакции не носила.
Те рассказы пролежали нетронутыми 16 лет. Случись их судьба удачнее, появись они на свет тогда, а не спустя столько лет, возможно, путь моих блужданий к самой себе был бы короче. В тех рассказах да записках было что-то более мне органичное, но, не принятое, смолкло, не развивалось.
Глава третья
1
Лишенное в годы войны уединенности слово выпросталось из подполья и так простенько припечатывает все, как оно было, без затей, утайки, торможения.
«Девочка лежит в конверте, и у нее официальный вид» — это моя первая проза. Еще раньше, когда ребенок, как говорят немцы, был «в пути», появилась тяга писать. Материнское чувство еще не проклюнулось, по незрелости моей, а тяга писать зацепила, напитала какой-то неясной полнотой жизни и, хотя ни строчки, что-то сулила.
Но как понять, как свести несовместимое: одновременно с таким окрыляющим побуждением меня настиг жесткий, мрачный удар. Это случилось в ИФЛИ на лекции по древнерусской литературе, в аудитории на четвертом этаже, в сумеречном, предвечернем свете, входящем в большие окна.
Припав к плечу опекавшего меня Изи Крамова — мы с ним ровесники, он старше меня на неделю, тоже 19, но девятнадцать мальчишеских лет, а нисколько не стесняется опекать меня, — я дремотно едва прислушивалась: «Помолитеся о нас вы бо увязостеся нетленными венцы от Христа Бога…» — что-то прикосновенное к вечному донеслось не с кафедры — из неведомой глуби веков. На стыке дремы и яви, под гул этих мерных, молящих слов меня вдруг ткнуло в грудь внезапным потрясением. Разверзлось, и я срываюсь в глухую пропасть. Не могу передать леденящий ужас, а ведь так-то оно и будет. В эти мгновения все люди неразличимы — какая-то человеческая протоплазма. Не за что ухватиться. И с немым воплем несешься куда-то вниз.