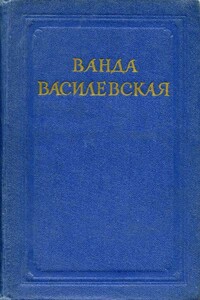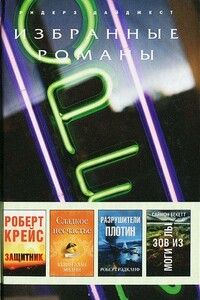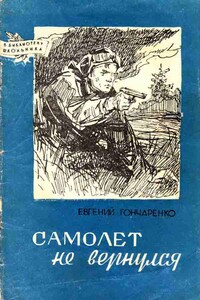Домашний очаг. Как это было | страница 35
5
Комиссия сочла меня пригодной продолжать учиться в Литинституте. Он укреплен по учебной части: ифлийская профессура — Поспелов, вечный Радциг с его напевом «Гнев, богиня, воспой!», университетский Асмус. Может, для кого-то важнее учение, для меня — среда. Это был теперь другой, чужой институт, и я ему чужая. Нет никого.
На втором этаже, где была небольшая комната — читальня, теперь не наткнешься на спящую на полу, подстелив газеты, Ксению Некрасову, в кое-каком пальто и теплом головном платке, спит, не шелохнется в ожидании своего спутника, чтобы вместе ехать в Переделкино, где в студенческом общежитии отведена ей клетушка. («А я ведь поэт/ и отгадчик Вселенной».)
Не перехватишь невольно взгляд Павла, не проймет болевой дрожью. Вскинув под углом друг к другу брови, в глазах скорбь индейца, замкнутого в резервации, так похож! А то полыхнет в глазах — забродил в нем стих, и это — свобода.
Не разнесется по институту громовое:
Это глашатай — Коля Глазков в той своей прежней жизни вблизи подступавшей войны. А когда разразилась и немцы подошли вплотную к Москве, он взмолился:
Узнав, что я вернулась, Коля пришел ко мне. Застенчивое «Здравствуй». И в известном его рукопожатии едва не хрустнула моя рука. С ходу стал наставлять, как мне следует жить, чем питаться. Черная икра в открывшемся коммерческом Елисеевском самый верный продукт. Вычислил, сколько требуется купить с рук килограммов хлеба, чтобы количеством сравнять в калориях питательность хлеба со ста граммами икры. Выходит, по-глазковски икра выгоднее, дешевле, и потому якобы перешел на икру. И все такое же: фантазии, парадоксы, наивность. А сам голодный, еще ни разу хлеба досыта не поел.
Извещает:
Если выпадает, пилит. А то топчется на перроне — поднести чемоданы, тюки. Он-то добрый, лукавый, а на посторонний взгляд лицо сумрачное, глядит исподлобья, а бляхи носильщика нет — не всякий решится доверить свой скарб такому. Прав Коля:
Не объявится в институте Кульчицкий в гетрах Маяковского, подаренных ему Лилей Брик.
Хрупкая, в темном платье, с массивной, скрученной жгутом золоченой цепью на шее, стянутыми в пучок на затылке рыжеватыми волосами, открытым лбом и распахнутыми неправдоподобно большими глазами — такой я впервые увидела ее. Было странно, она не показалась мне красивой, а какой-то особой, ни на кого не похожей. Она пришла в клуб МГУ на улице Герцена, на выступление группы не печатавшихся, но известных в Москве молодых поэтов. Павел Коган, Борис Слуцкий, Сергей Наровчатов, Михаил Кульчицкий, Михаил Львовский. Давид Самойлов еще не решался читать со сцены стихи. Он посылал из зала записки, корректируя товарищей. Одна такая сохранилась у меня: «Слуцкому, президиум. Борька, ты прошел на 7. Читал плохо. Павка на 6. Кульчицкий тоже пока. Дезька».