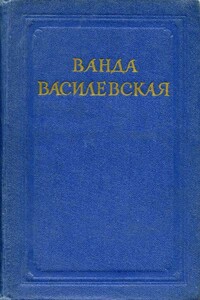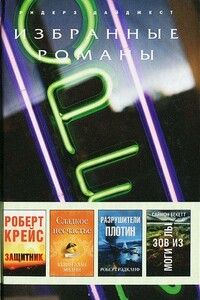Домашний очаг. Как это было | страница 28
В какой-то момент, а может, показалось, взгляд его все тех же удивительно синих глаз вдруг пристально прошелся по мне. Уткнуться б лицом в его черный, мягкий свитер, молча открыться ему в настигающей тоске, неприкаянности. Но только мелькнуло и оборвалось. Он был другой. Не тот прежний юноша. Мужчина, почти незнакомый.
Последнее письмо от него пришло после большого перерыва уже в Германии. Писал кратко и не как прежде — с досадой укорил, что от меня давно ни слова… Под конец четвертого года войны, да в такой дали, в чужеземье, когда все, что в прошлом, порой покажется нереальным, слабели наши связи, привязанности. А захваченность масштабом событий, своим участием в них и чувством к увлекшему и привязавшему к себе человеку. Это все как?
Я ответила тоже коротким письмом, что ожидаю демобилизации. «В предстоящем возвращении мне видится реальной только встреча с Олей и с тобой». Так оно казалось.
Встретились. Разговориться не получалось. Он торопился, вечерним поездом уезжал в Киев увидеться с братом.
Любимый брат, старший и единственный. Художник. В войну — младший лейтенант. В Киевском котле попал в плен. Стоял под расстрелом надо рвом вместе с евреями и политруками. Выдернут был немецким переводчиком, не признавшим в нем еврея. Бежал, был схвачен, заключен в немецкую тюрьму. Рискованный, удавшийся, смелый побег. Это было с братом там, на той стороне. На нашей два с лишним года он значился «без вести пропавшим», что чаще равнозначно было — убит. Кто ж у нас при таком отступлении подбирал и опознавал павших.
Он ехал к воскресшему из мертвых брату. Впервые в разгромленный Киев, где Бабий Яр, где зверски убиты их родители.
В коридоре он надел плащ, и заметнее стали погрузневшие плечи, словно принявшие тяжесть пережитого. Кольнуло тревожно за него, будто что-то в нем самом неблагополучно. Мы обнялись на прощание как близкие люди, поцеловались. Он достал из кармана «Беломор», помедлил, не стал закуривать. Глядя мимо меня, сказал глухо, упористо, странно: «Что бы тебе ни сказали, что бы сама ни увидела, я свободен». Ушел. Я постояла, прислушиваясь. Грохнула дверь, выпустив его из подъезда.
3
Литературный институт Союза писателей. Отсюда, с Тверского бульвара, 25, я вступила в армию осенью 1941-го.
Прошло четыре года. Демобилизовавшись, я вернулась доучиваться в Литинститут. Была осень 1945-го. Директорствовал Федор Гладков, автор «Цемента», один из зачинателей советской литературы, «классик». Он несся по коридору, вдогонку за ним взметались длинные, легкие, седые волосы. Других впечатлений от его облика у меня не было. Видела его только со спины, убывающим в глубь коридора, в темный тупик, куда выходила дверь его кабинета. За ней он недоступно исчезал. Но присутствие его самодурства ощущалось в институте. Не обошло оно и меня. Мне передали его распоряжение. Попирая право демобилизованного фронтовика — продолжать учебу в институте, который он оставил, уходя на войну, Гладков распорядился — и до меня довели: мне надлежит представить на рассмотрение комиссии плоды своего творчества за последние годы. От оценки их комиссией зависит, быть или не быть мне вновь студенткой Литинститута.