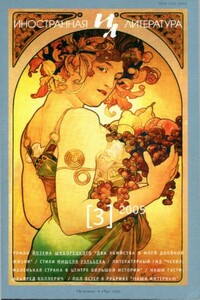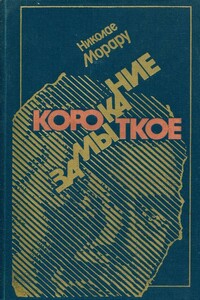Смерть в Риме | страница 25
— Наш главный дирижер, — он всегда выражался напыщенно, титулы импонировали ему, — был у меня, он хочет, чтобы я помог ему добиться освобождения тестя, старика Ауфхойзера. А я посоветовал ему подумать о своей карьере и развестись с женой…
Тут отец заметил меня и в бешенстве выгнал из комнаты, а теперь я знаю, что старик Ауфхойзер был впервые арестован, когда евреям был объявлен первый бойкот. Но только в день второго, всеобщего бойкота фашисты подожгли торговый дом Ауфхойзера. У меня в военном училище были каникулы, и я видел, как дом горел, до тех пор я еще не видел, как пылают дома. Ауфхойзер опять сидел в тюрьме, а мой отец был дома, разливал суп за обедом — он иногда прикидывался сторонником патриархальных нравов. Из репродуктора источали ядовитую слюну Геринг и Геббельс, и моя мать сказала:
— Конечно, жалко, что столько прекрасных вещей сгорело.
Потом старик Ауфхойзер опять сидел в тюрьме, а через некоторое время я занялся разбором его библиотеки: книги были свалены в кучу на чердаке в общежитии гитлерюгенда — видимо, кто-то перетащил их туда и о них забыли; Ауфхойзер был библиофилом, я нашел среди его книг первые издания классиков и романтиков, редкие издания немецких и античных авторов, первые издания натуралистов и братьев Манн, произведения Гофмансталя, Рильке, Георге, журналы вроде «Блеттер фюр ди кунст» и «Нойе рундшау» в виде переплетенных комплектов, литературу первой мировой войны, экспрессионистов, Кафку. Я кое-что выкрал и унес к себе, а позднее все, что осталось, сгорело, вместе с общежитием было растерзано бомбами, а заключенного Ауфхойзера прикончили. Значит, Ильза его дочь; Как же мне теперь смотреть ей в глаза? Куда заводят меня мои мысли? А мысли не хотели делать этих выводов, они упирались: Ильза хорошо сохранилась, ей сейчас, вероятно, за сорок, и ни одной морщинки. Мысли продолжали упираться: Ауфхойзеры были богаты, интересно, возместили им убытки? И дальше: он ведь женился не на ее богатстве, это произошло гораздо позднее, он восстал против зла. И дальше: они любят друг друга, они всегда вместе, они все еще любят друг друга. И мы пошли ужинать, сели за стол, и Кюренберг накладывал кушанья, она наливала вино, и, конечно, ужин был восхитительным, следовало похвалить повара, но я был не в силах, все казалось мне безвкусным, нет, я ощущал на языке вкус пепла, горького пепла, который вот-вот развеется по ветру, и я подумал: она не видела, как горел дом ее отца. Она не видела, как горел и наш дом. И я подумал: это, было, было, было, этого нельзя изменить, будь все проклято, проклято, проклято. Мы ели шпинат, тушенный целыми листьями в рафинированном масле, посыпая, его сыром, который я натер, и бифштексы в два пальца толщиной, нож входил в них, как в масло, а из середки текла алая кровь, и пили вино, холодное и терпкое, как вода из свежего родника, это я все-таки ощутил, несмотря на сухой, шершавый пепел на моем языке; во время еды не разговаривали, супруги Кюренберги склонялись над тарелками, они вкушали пищу серьезно; я пробормотал один раз «восхитительно», но, может быть, слишком робко, так как никто не ответил; в заключение был подан пылающий воздушный пирог с малиной, нечто почти тропическое и все же полное аромата немецкого леса, и Кюренберг сказал: