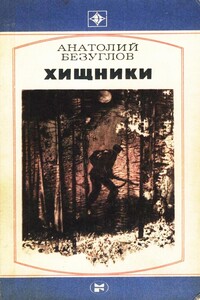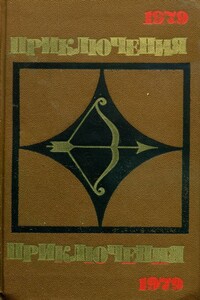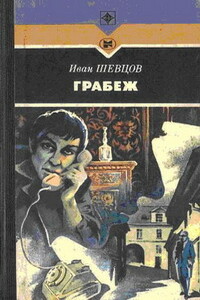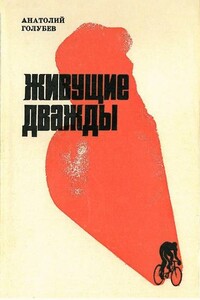Умрем, как жили | страница 30
— А ты бы и не жил — влачил жалкое существование…
С водителем шефа, в прошлом автогонщиком, мы были дома через пятнадцать минут.
Оксана сидела на стуле посреди комнаты и плакала.
Ее пышные, медно-красные волосы, были спрятаны под черный, повязанный по-деревенски платок. Лицо, покрытое синеватыми пятнами, раздражавшими ее во время беременности куда больше, чем необъятный живот, было бледным и злым, даже нос с горбинкой как бы еще более выгнулся, будто у хищной птицы. Была Оксана колючей и жалкой.
— Ну, что ты, глупая, словно навечно собираешься! Это ведь недолго и не страшно. Все через это проходят.
— Ах все? — сказала она, утирая слезы. — Так вот иди и рожай сам!
— С удовольствием, пусть меня только научат! — Я опустился на колени и принялся вытирать ей слезы.
Но шутка моя успеха не имела. Мы вышли из дому, так и не примирившись. Лишь перед самым приемным покоем Оксана взяла себя в руки, как-то очнувшись от делового и грубоватого голоса большой толстой нянечки.
— Чего хнычешь? Хозяин твой здесь постоит, а ты марш переодеваться. Вещички ему вернешь, когда переоденешься. Стой, куда лезешь — там женщины. — Она остановила меня, когда я хотел пройти в комнату вслед за Оксаной.
Покраснев, я неловко прижался к колонне и стал ждать. Казалось, прошла вечность, пока из-за полуоткрытой двери не выглянуло улыбающееся лицо жены, и она позвала:
— Иди сюда. Теперь можно. Нет никого.
Она сунула мне в руки узелок с вещами и, запахивая полы больничного халата, чмокнула в щеку.
— В холодильнике колбаса — купила килограмм. Суп на два дня сварен. Картошки сам себе начистишь — она под столом в пакете.
— Я в столовой поем.
— Я тебе поем! Опять желудок болеть будет. И не работай по ночам.
— До работы ли теперь! Когда можно позвонить и узнать?..
— Вот телефон. В любое время. — Она сунула мне клочок смятой бумаги, и тут сзади на нее навалилась нянечка.
— Иди на место, — заворчала она. — Не наговорились дома, что ли?
Дверь закрылась.
Выйдя за ворота родильного дома, я вдруг почувствовал, что идти-то мне, собственно, некуда, что самое дорогое в моей жизни остается в этом пятиэтажном доме из мрачноватых серых бетонных плит и, где бы сегодня ни оказался, все мои мысли будут здесь.
АВГУСТ. 1941 ГОД
Двое суток Юрий не выходил из дому, прислушиваясь к редким выстрелам и непривычной тишине бестрамвайной улицы. Глухие ставни он открывать не хотел, чтобы сохранилось впечатление заброшенного дома, — тогда, в ночь своего прихода, он не заметил, что ближайший к улочному забору угол дома просел от взрыва, оставившего в соседнем саду глубокую, черную воронку.