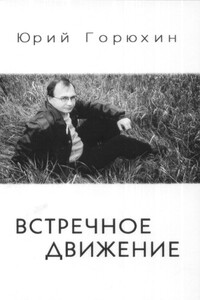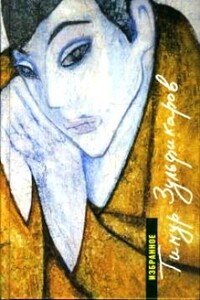Медный закат | страница 5
Сегодня я развожу руками. Подумать, еще несколько дней, и Костику Ромину предстоит очередная годовщина. Перо сопротивляется пальцам, не хочет вывести на листе, каким окажется новый возраст. Какой-то неодолимый ступор. Я так свободно произношу страшную, неподъемную цифру, в которой заключены мои годы, но стоит заговорить о Костике — и мне тяжело ее повторить. Он будто приговорен к своей юности, хотя мы и прожили с ним бок о бок немыслимый срок, и он без раздумий переходил, как из комнаты в комнату, из сочинения в сочинение.
Когда я впервые дал ему имя, мы были едины и нераздельны. Да я и придумал ему эту кличку, чтобы укрыть за ней наше родство. Потом я дважды его убивал. Настолько разошлись наши жизни, что сознавать это стало пыткой. Но скоро увидел и убедился, что воля автора не всесильна и покушения удались мне лишь на бумаге — он уцелел. Что нас разъять уже невозможно и нам суждено погибнуть вместе — уйдем в одну и ту же минуту.
Мне стало ясно, что слишком рано сыграл я фаустову игру и слишком рано я пожелал остановить, удержать мгновение. Теперь-то я понял, что полстолетия еще не вечер — тогда, в Подмосковье, в подгнившем и заснеженном доме, молодость во мне еще билась и все еще подавала свой голос. Поэтому Костик легко явился, я попросту его разбудил.
В конце короткого февраля, невнятного, поспешного месяца, как будто разорванного на две части — на еще зимнюю, вьюжную, злую и на другую — ветер пронзителен, но в нем предвестие перемены, — в конце февраля я ехал в Москву с теплой охапкой густо исписанных, мятых, исчерканных страничек. Думал-гадал, как сложится жизнь моей новорожденной комедии, искал обнадеживающих примет в том, что дорога приветно поблескивает в этом скупом негреющем солнце, послушно стелется под колесами с налипшим снегом, послушно поскрипывает, похрустывает непрочным ледком, что есть в меняющейся погоде нечто веселое, юное, роминское, вот уже станция, издалека доносится стук моей электрички.
В Москве я с усилием применился к иному нетерпеливому ритму — в беззвучном подмосковном скиту успел перейти на медленный шаг. Почти мгновенно сложилась судьба моей ностальгической элегии. Зажегся Михаил Козаков — он приближался к сорокалетию и ощущал себя созревшим для режиссерского дебюта. Казалось бы, можно остановиться, передохнуть и спокойно ждать, когда наполнится твой колодец.
К несчастью, я никогда не жил, я только подсчитывал минуты, бездарно упущенные навеки. Ровесники, самые работящие, ценили заслуженные привалы и радовались своей убежденности, что смерть — это то, что бывает с другими. Эту уверенность я угадывал почти немедленно в каждом встречном. Что толку? Я беспокойно прислушивался к тому, как истаивает мой срок.