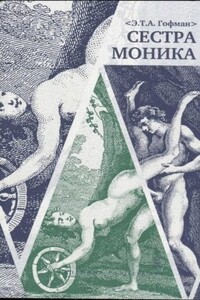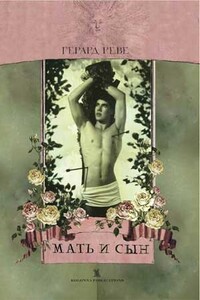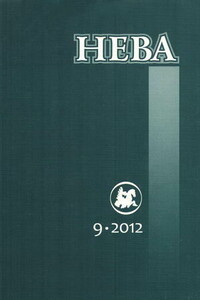Милые мальчики | страница 23
— Да нет, Мышонок. Я еще в жизни так не веселился. Душа ликует и поет. К тому же отродясь не болел. Что ж, начинать?
— Начнем, пожалуй.
Я хотел заговорить, но промолчал. В то время как руки мои механически совершали ласкательные движения, ставшие для меня чем-то столь же естественным и бессознательным, как дыхание, я вдруг почувствовал, как это нередко случалось в час заката, что во мне пробуждается первобытный, всепожирающий, раздирающий душу страх. Мне было страшно. Страх с ревом захлестнул меня, словно ледяная черная, громадная — высотой с башню — волна: страх Судного дня, ведь он наступит когда-нибудь, и тогда велика вероятность того — ах, тогда совершенно точно: навсегда отвержен буду я от очей Его, поскольку в жизни своей совершал я ужасные вещи, хотя ни одна книга, ни один рассказ, вышедшие из-под моего пера, об этом не упоминали. Но не всегда можно было сказать: мне страшно, невыносимо страшно. Нельзя этим беспрестанно, и всякий раз заново, досаждать людям. К тому же помочь все равно никто не сможет.
— Тебе что-то вспомнилось?
— Да, — сказал я тихо. — Тут уж ничего не поделаешь, вечно что-то на ум приходит. Ты ведь тоже о чем-то думаешь?
Нужно же мне было что-то сказать.
— Да, кое о чем, — сказал Мышонок; он лежал на спине и широко раскрытыми глазами глядел в потолок; голос у него был жалкий, чуть ли не плачущий. — Я Ринуса вспомнил. Ему было двенадцать. Ровно двенадцать лет тому назад это и случилось.
— А что именно? — В сущности, я был задет тем, что кто-то, кроме меня, осмеливался возвращаться мыслями к былым печалям.
— Ринус. Он ехал на велосипеде, а сзади — грузовик, сбоку выскочил, и Ринус упал. Ах, господи Иисусе, Ринус. Он был католик. Ринус.
«В той песне краткой столько слез»[12]. Смерть собрала немалый урожай среди молодежи простонародья. Был ли Мышонок влюблен в Ринуса, вожделел ли к нему, когда подкарауливал его у чердачного окна, мечтая, томясь и тревожа свою одинокую плоть? Тот, в соседском заднем дворике, которого пороли — его ведь тоже звали Ринусом, вспомнил я вдруг.
Может быть, тот — в столь юном возрасте волею роковой случайности вырванный из жизни, столь любезный Мышонку Ринус — как и мой выпоротый сосед — в день своей гибели тоже был одет в короткие бархатные черные брючки, лоснящиеся на заду и туго натянувшиеся над потертым кожаным велосипедным седлом, рассчитанным на взрослого. Колеса грузовика, несомненно, сплющили его белокурую мальчишескую голову, раздробили плечи, смяли грудную клетку — но ноги, бедра и бархатистые мальчишеские холмики остались невредимыми, неоскверненными, так что его придавленная этой трагедией семья уложила его в Гробу на живот, прикрыв лишь голову и верхнюю часть тела, но бедра и юношеские ягодицы — еще один рассвет и еще один закат будут они все так же прекрасны — остались, облаченные в глубокий траур, доступны взорам через оконце, прорезанное вдоль нижней части крышки гроба.