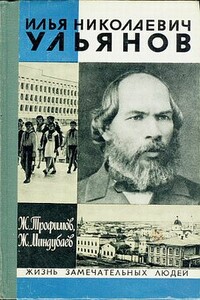Волкогоновский Ленин (критический анализ книги Д. Волкогонова “Ленин”) | страница 57
Молотов не передал в тот же день телефонограмму членам Политбюро. Не говорилось ничего об этом и на заседании Политбюро 20 марта. Такое могло случиться только в том случае, если Владимир Ильич сам распорядился не давать ходу своим предложениям. Само собой разумеется, что их содержание тем более не дошло до провинциальных руководителей.
Волкогонов же, как заядлый фальсификатор, пишет, что эту “страшную директиву Ленина” Политбюро обсуждало несколько раз, и вскоре повсеместно началось массовое насилие против церкви и ее служителей: “По всей стране начались фактически военные экспедиции против храмов, духовенства. Грабили не только православные соборы, но и еврейские синагоги, мусульманские мечети, католические костелы. По ночам в подвалах ЧК или в ближайшем лесу трещали сухие револьверные выстрелы. Священников, активных верующих закапывали в балках, оврагах, на пустырях. Над Россией замолк колокольный звон”.
Но сам-то автор смог привести в качестве примера только один, причем широко известный по газетным отчетам 1922 года судебный процесс, в Москве, на котором были приговорены к смертной казни 11 священнослужителей и граждан за организацию антисоветских выступлений. Шестерых из них президиум ВЦИК помиловал.
Еще в 1990 году я выяснял, как именно происходило изъятие церковных ценностей в Симбирске и губернии, сколько служителей культа было репрессировано в 1922 году. Архивные документы свидетельствуют, что ни одного случая столкновения духовенства с властями Здесь не имело места. Ни один служитель культа не только не был расстрелян, но и не заключен в тюрьму, хотя на двух судебных процессах были установлены случаи пропажи драгоценностей, числившихся в церкви и синагоге. Виновные — священник и раввин — отделались условным заключением.
Несмотря на все потуги Волкогонова доказать, что при Ленине началось массовое закрытие и разрушение культовых построек, он так и не смог подтвердить это каким- нибудь документом. Что касается Симбирска-Ульяновска, то из архивных документов видно, что в первые годы советской власти была осуществлена мера, предлагавшаяся эсерами еще до Октябрьской революции — ликвидация монастырей и домовых церквей. Смоленская церковь была приспособлена для детского приюта. Закрытие же церквей в Ульяновске происходило уже после смерти Ленина, с конца 20-х годов: Александровская (на территории областной больницы), Троицкая и Петропавловская — в 1929 году, Германовская — в 1931-м, Вознесенский собор, Богоявленская церковь и Покровский монастырь — в 1932-м и т. д. (ГАУО, ф. 200, оп. 2, д. 234 и др.).