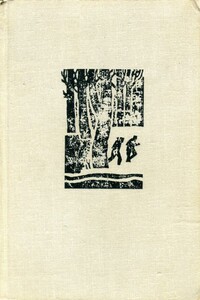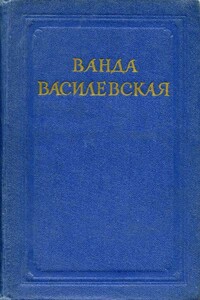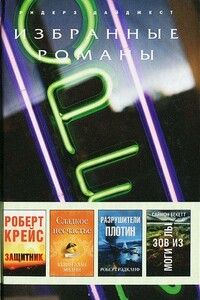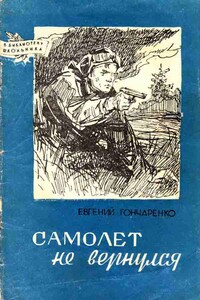Избранное | страница 22
— Скорей, торопитесь вы там! Сколько можно возиться, — кричит им Шумич.
— А ты потерпи, молодой господин, пока не приготовим тебе перинку на ночь.
— Здесь уснешь навеки, не огорчайся. Таков закон, все там будем!
— Закон — законом, а вот ваши ушли и вас оставили.
— Куда ушли?
— Господа бога спрашивай!
Четники посмотрели в сторону лесосклада и застыли: никого, даже не сказали, куда ушли. Растерянно переглянулись, обманутые, покинутые, и давай обсуждать, кто виноват. Кто-то попытался объясниться с унтером, полагаясь больше на жесты рук и ног.
— Наши виа, — ушли вниз по дороге форверц, — вперед через мост, нету их! Вон, погляди: ушли! Домой ушли, манджаре, есть. Пора и нам. Голодные мы, видишь, пустое брюхо, не можем работать. Офицеры наши, ваши…
— Наши шайзе, ваши шайзе, дерьмо! — с издевкой бросил унтер и заорал: — Arbeit! Los! [3]
— Что он говорит?
— Говорит: «Никуда не пойдете, пока не выкопаете могилу».
— Ну! Давайте подналяжем! Раз надо, нечего волынить!
Снова взялись дружно за лопаты, копают, бросают землю и клянутся друг другу, что больше никто и никогда в политику их не втянет: куда лучше сидеть у себя дома и ни во что не вмешиваться…
Унтер нервно разгуливает взад и вперед и косо поглядывает на нас. И мне кажется, ему досадно, отчего мы не пытаемся бежать, была бы возможность нас ликвидировать до ночи и надвигающегося дождя. Вдруг он останавливается, видимо что-то надумав, раскорячившись поднимает руку с растопыренными пальцами и кричит:
— Fünf!
Мы понимаем, что он требует пять человек, но нам неясно зачем, и мы не спешим выполнять его приказ. Возможно — копать, но никто не хочет сменять четников, они словно созданы быть могильщиками. Мишо Попов, решив, что вызывают на расстрел, медленно встает. Цепь его от пояса до щиколоток поскрипывает и позвякивает. Он поворачивается ко мне.
— Пойдем, Нико, вместе. Лучше поскорей с этим кончить.
Поднимаюсь и я — чего ждать?.. Страх от предстоящей боли, который до сих пор я испытывал, словно переместившись из бронхов под ребра, уменьшается. Притупляется и жажда жизни от мысли — стоит ли? — и сводится к легко устранимой помехе. Жаль мне одного: ухожу невинный, как ягненок. Я не убежден, что убил или ранил немца, итальянца, земляка-доносчика и провокатора — никого из стольких насильников и гадов! Страшно это, но поздно, уже не исправить. И все-таки гордо поднимаю голову, будто убивал. И скорее всего, убивал — рукой своих учеников. И с удовольствием чувствую, что усталые мышцы послушно и точно подчиняются моей воле, которая сейчас готовит им гибель. «И это не так уж трудно, — подумал я, — они получат маленькую компенсацию, даже не такую уж маленькую, как во время трудного подъема на гору, когда воображение начинает рисовать незнакомые картины после перевала. Глаза не ослеплены ни сверканием, ни страхом и смотрят не жмурясь».