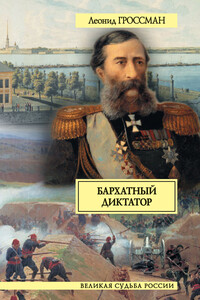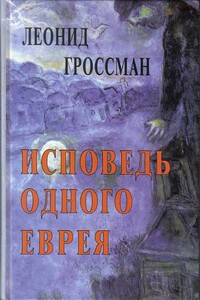Достоевский | страница 54
Это был особый реализм, глубокий и проникновенный, но лишь частично соприкасающийся с техникой фельетонных «дагерротипов». К нему приложим термин, которым Анри Барбюс предлагал назвать стиль Эмиля Золя, — реализм утопический.
Вот почему система Белинского представлялась Достоевскому «слишком уж реальной», не способной оценить по достоинству новейших мастеров повествования с их смелым сочетанием «иррационального» с реалистическим.
«Я помню мое юношеское удивление, — вспоминал через двадцать лет Достоевский, — когда я прислушивался к некоторым чисто художественным его суждениям». Речь шла об «Евгении Онегине», о «Мертвых душах», о «Повестях Белкина», о «Коляске». Белинский, по впечатлению его слушателя, интересовался не мощной лепкой типов Гоголя, а только силой его обличения. Он отрекся от окончания «Евгения Онегина», то есть осудил жертву Татьяны, принесенную ею во имя верности и нравственного долга.
По свидетельству Достоевского, он расстался с корифеем русской публицистики «из-за идей о литературе» и ее направлении. Но на такой эстетической почве сходились узлы всех вопросов: философских, исторических, социальных, религиозных.
«Взгляд мой был радикально противоположный взгляду Белинского. Я упрекал его в том, что он силится дать литературе частное, недостойное ее назначение, низводя ее единственно до описания, если можно так выразиться, одних газетных фактов или скандалезных происшествий. Я именно возражал ему, что желчью не привлечешь никого, а только надоешь смертельно всем и каждому… Белинский рассердился на меня, и, наконец, от охлаждения мы перешли к формальной ссоре, так что и не видались друг с другом в продолжение всего последнего года его жизни».
Достоевский называет свое направление «диаметрально противоположным газетному и пожарному», то есть революционному (по смыслу французского слова «incendiaire»).
Расхождение с Достоевским по основным проблемам теории творчества подтверждает и сам автор «Письма к Гоголю». По собственному горькому опыту 30-х годов Белинский ощущал неверный уклон в исканиях своего молодого друга и старался удержать его от опасной ошибки (соблазниться теорией «чистого искусства»).
«Мы сами были некогда жаркими последователями идеи красоты, — писал великий критик, — но с одною красотою искусство еще далеко не уйдет, особенно в наше время». На новый же путь Достоевский не мог вступить. «Эстетическая идея» оставалась для него основой не только творческой мысли, но и всего исторического процесса.