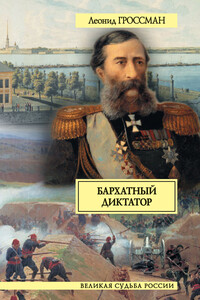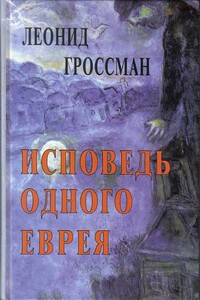Достоевский | страница 45
«В его «оловянных очах» и стремлении залезть в душу собеседника угадываются характерные черты не только николаевской жандармерии, но и самого Николая I, любившего разыгрывать со своими жертвами роль их сентиментального друга, поклонника наук и искусств» {Достоевский, Соч., т. I, M., 1956, стр. 677.}.
Значительность темы ощущалась и при первом чтении повести. По свидетельству Григоровича, «Двойник» произвел сильное впечатление на Белинского, который на чтении повести «сидел против автора, жадно ловил каждое слово и местами, не мог скрыть своего восхищения, повторяя, что один только Достоевский мог доискаться до таких изумительных психологических тонкостей».
«Для всякого, кому доступны тайны искусства, — писал вскоре Белинский, — с первого взгляда видно, что в «Двойнике» еще больше творческого таланта и глубины мысли, нежели в «Бедных людях». Это «совершенно новый мир», впервые здесь открытый и воссозданный. Поражает «патетический колорит повести» и умение автора выразить мысль смелую и выполненную с удивительным мастерством».
Критик возражал лишь против некоторых недостатков формы и отсутствия чувства меры, но и промахи автора только служат «доказательством того, как много у него таланта и как велик его талант».
Достоевский выслушивал наставления Белинского благосклонно и равнодушно, как вполне сформировавшийся автор.
Но при этом он соглашался с мнением Белинского, что форма «Двойника» не удалась и нуждается в переплавке. «Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником», — писал он в 1859 году. До конца дней своих Достоевский будет искать соответственного воплощения для этой «светлой и серьезнейшей» своей идеи, наново пробуя и не переставая осложнять и углублять тему «Двойника» в каждом новом своем романе.
И только в своей последней книге он покажет огромный образ Ивана Карамазова, искаженный и обличенный его страшными спутниками — лакеем Смердяковым и Чертом. Накануне смерти Достоевский осуществляет свой заветный замысел и дает переработку своего раннего «Двойника» в «трех беседах» и «кошмаре» Ивана Федоровича. Мучительные искания формы, соответствующей трудному замыслу, наконец, завершены. Колеблющиеся контуры 1845 года, охватывая теперь историю страшнейшего преступления — отцеубийства, — вырастают в трагедию одного могучего интеллекта, расколотого ужасом и отчаянием перед собственным нравственным крушением.