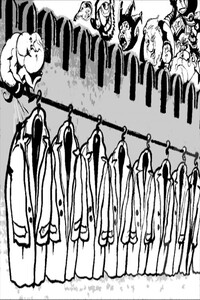До и после «Чучела» | страница 10
— Я не буду говорить стихов! Они надо мной смеются! Нельзя смеяться над человеком! — Я где-то слышал эти слова, и они мне очень нравились.
Как только зритель из моих уст услышал: «Нельзя смеяться над человеком!» — все стали хохотать до слез… Женщина снова взяла меня на руки, снова поставила на стул и успела шепнуть добрым голосом:
— Продолжай, у тебя хорошо получается.
Когда человеку в четыре года говорят добрым голосом, он же верит! Я смотрел на зрителя и думал: «Они с ума сошли — они так хохочут, что могут не услышать, как у меня замечательно получается». И тогда я принялся орать стихи дурным голосом.
Зрители стали хохотать еще громче. Тогда я стал орать благим матом. В зале засмеялись еще пуще, это уже был не смех, а стон… Несмотря на это, я доорал стихотворение до конца, слез со стула и ушел за кулисы. Мне аплодировали. Женщина сказала:
— А теперь надо идти кланяться…
Тут я обиделся окончательно, даже слезы на глазах выступили, и сказал: «Не пойду кланяться!» Я знал, что кланяться — унизительно, что это стыдно. У нас во дворе, когда ругались, часто говорили:
— Что я тебе буду кланяться, что ли!
И поэтому я, готовый заплакать, почти кричал:
— Не пойду кланяться!
И вот тут моя подруга четырехлетняя, имевшая на меня все-таки решающее влияние, своим противным голосом, которого я не выдерживал и готов был сделать все, что угодно, лишь бы она перестала, заныла:
— Ну, иди-и-и-и-и-и-и!.. Тебе же говоря-а-а-а-а-а-а-т!
И я пошел кланяться!.. Но, к сожалению, забыл спросить, как это делается. А когда вышел на сцену, вдруг вспомнил, как кланялась бабушка, когда молилась. Стал я на колени — и давай кланяться.
Зал положительно рухнул от хохота. А я кланяюсь и думаю: «Чего же я не спросил, долго нужно кланяться или нет?» Посмотрю в кулису — они смеются, и женщина, которая записывала, и моя подруга. Думаю: раз смеются — нужно еще кланяться… Зритель уже плачет от смеха, люди не выдерживают, на пол садятся, а я все кланяюсь, и кланяюсь, и кланяюсь… Так я кланялся, пока не стукнулся лбом об пол. Гулко прозвучал удар — все даже ахнули. Тогда я встал на ноги и сказал:
— Все! Хватит! — и ушел со сцены.
После этого я получил прозвище «Ромка-артист». А прозвище для человека в четыре года — это уже должность! Тут никуда не денешься, артист — и все! Я вырос в большой московской коммунальной квартире, такой большой, что сейчас самому даже не верится, что когда-то такие квартиры были. У нас было 43 (!) комнаты при одной кухне. Как говорится: есть что вспомнить! И эти 43 комнаты стали моими 43 театрами, потому что не было дня, чтобы не открылась какая-нибудь из дверей и кто-то не говорил бы «по-свойски»: