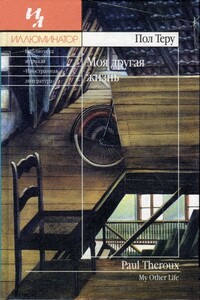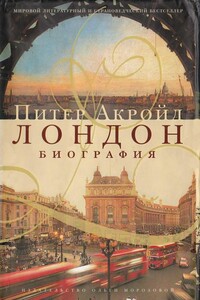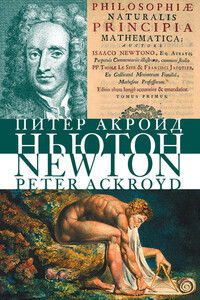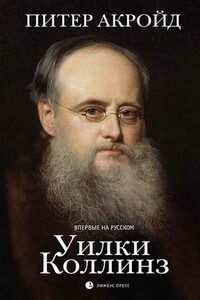Дом доктора Ди | страница 75
Один да Один всегда одинок, так будет во веки веков.
А в дальнейшем особливость моя лишь возрастет. Мое искусство превознесет и облагородит меня, я буду восхищен в третье царство и затем вернусь, осененный столь чудной благодатью, что здешний текучий мир станет мне безразличен. Тогда, страх, я распрощаюсь с тобой. Никто больше не превратит меня в легкую добычу для подлых завистников и коварных интриганов, повергнув наземь нежданной подножкой. Я перестану опасаться изменчивости, ибо познаю все, и пигмеи, что ныне окружают меня, будут сметены прочь. Я не убоюсь никого. Я не позавидую никому. Итак, я должен быть железом, стремящимся обратиться в адамант: я должен неуклонно приближаться к великой тайне. Разве я уже не на пути к созданию новой жизни без помощи женской утробы? А если я сотворю бессмертное существо, значит, мною будет найдена та внутренняя божественность, та душа, та искра, то пламя, что движет сферы. Глядите. Я плюю на ваш мир. И, очистясь таким образом от последних следов изрыгнутой из желудка скверны, еду к снова встающему впереди Лондону.
Утром я усердно трудился над составом влажной среды, пригодной для дыхания гомункулуса, но мои занятия были прерваны появлением горничной. Она крикнула: «Вы не спите, сэр?» – а затем громко постучала в дверь моей комнаты.
«Я уж давным-давно на ногах, Одри Годвин. Высоко ли поднялось солнце?»
«Сейчас не так поздно, как вы думаете. Всего лишь половина восьмого. Но поспешите, сэр. Это ваш батюшка».
На мгновение я побледнел. «Он здесь?»
«Нет. Из лечебницы прискакал гонец – говорит, он вот-вот отдаст Богу душу».
«Что ж, время приспело».
«Торопитесь, сэр, не то опоздаете».
Несмотря на ее призывы, я оделся со всем тщанием и только потом выехал вместе с гонцом к последнему приюту моего отца на этой земле. День выдался еще более суровый и морозный, чем вчера, и, свернув на Аксбриджскую дорогу, я замотал рот и нос шарфом, дабы уберечься от простуды. Когда мы миновали подъездную арку, Холлибенда поблизости не было, и я отправился по знакомому пути один: прошел через галерею, поднялся по лестнице, которая вела в общую спальню престарелых, и отыскал деревянную ширму, отделяющую отцовский угол. Но на кровати его не было, и на миг мне померещилось, будто он уже покоится в могиле; затем я увидел его. Он стоял у другой стены, рядом с древом жизни, бледный как труп и голый, во всей своей срамоте; руки его были сложены на груди, и вдруг он зашагал в мою сторону. Я отшатнулся, но он ничем не показал, что узнал или заметил меня. Перейдя комнату, он в молчании возлег на кровать, затем устремил на меня взор и разразился смехом. «Не ведаю, что означает сей черный шарф, – произнес он. – Но догадываюсь». Глаза его глубоко запали или ушли в череп, а плоть так истощилась, что еле прикрывала кости. Я не вымолвил ни слова, и вскоре он перевел взгляд на потолок и принялся быстро бормотать что-то невразумительное. Внезапно он спросил меня, что вы сказали? Я отвечал, ничего; тогда он подивился, чей же голос он слышал. Затем стал жаловаться, будто по нему кто-то ползет, как бы пиша на спине и поднимаясь к голове. «Я вижу его, – вдруг воскликнул он, сел в кровати и распрямился. – Вон там, на подушке у окна, маленькое существо – оно заигрывает с вами. Разве вы не слышите? Вот оно говорит: погаси свою свечу, ибо это последнее, что тебе нынче нужно сделать. Так вы не видите и не слышите его, сэр?»